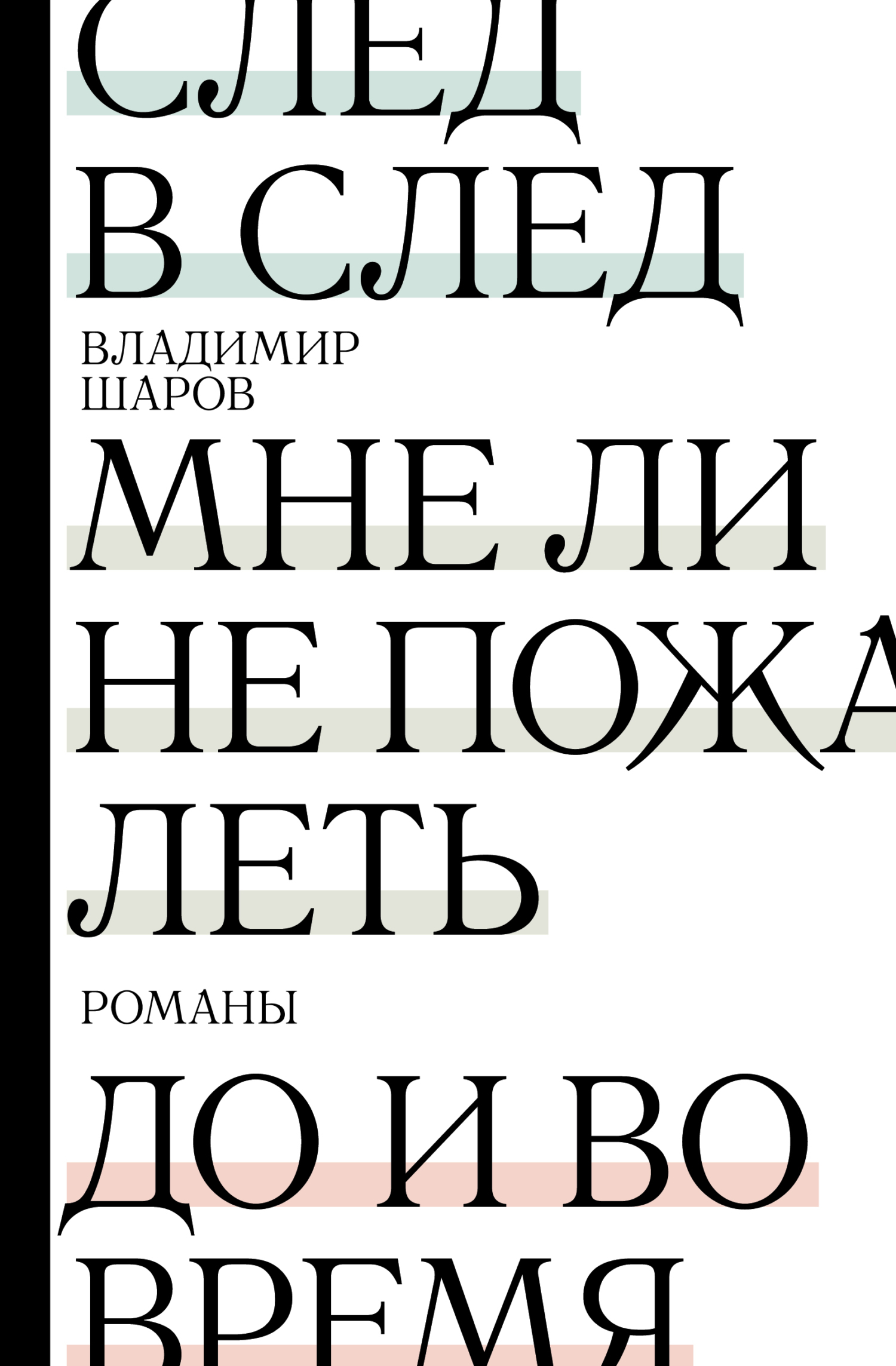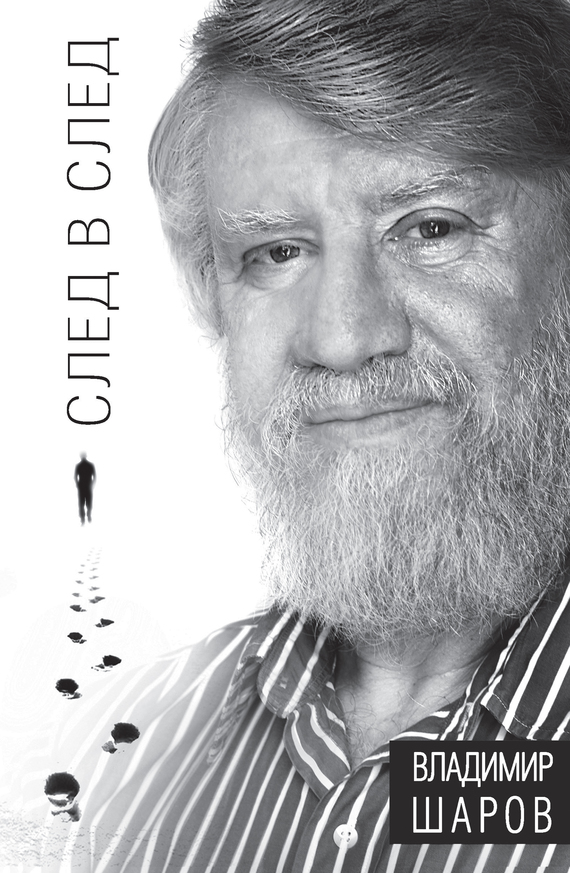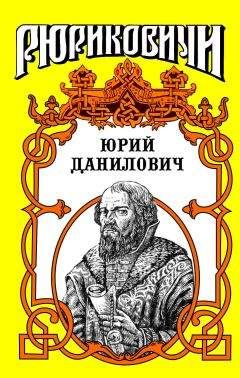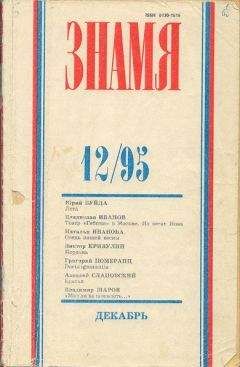трое детей. Кроме того, первые два дня, что баржа здесь застряла, когда он думал, что вот-вот шлюз заработает, дети его им хлеб таскали, траву, сено – в общем, подкармливали как умели, а потом он понял, что всё равно их не спасешь: везут-то скот на бойню, может, это специально, чтобы они о жизни не жалели.
«После разговора с механиком, – показал Краус, – я вернулся к барже и встал там же, где стоял: две коровы, что дотянулись, мне руки лижут и плачут, будто люди. Холод страшный, они дрожат, непоенные-некормленные, и воют, воют, воют без конца. Тут во мне что-то сделалось, я вдруг понял, что так дальше продолжаться не может, не может быть так, что это правильно, что Господу это угодно.
И тогда я воззвал к этим несчастным: я поднял крест, именем Господа нашего Иисуса Христа благословил их и сказал, что за те ни с чем не сравнимые страдания, что им довелось пережить по вине человека, отныне и присно и вовеки веков освобождаю скот от всех обязательств, что наложены были на его предков и на него самого после Потопа. Я видел, что животные боятся мне поверить, боятся поверить, что наконец свободны, и объяснил им, что тогда, после Потопа, людям жилось очень тяжко, всё надо было начинать заново и Господь дал человеку послабление – разрешил употреблять в пищу мясо живых существ. Он сделал это потому, что они были обязаны человеку жизнью; во время Потопа они спаслись лишь благодаря Ною, который взял их к себе на Ковчег и там год кормил.
Я сказал им это и повторил, что теперь они свободны, навсегда свободны, потому что никто из рода людского никогда не получал от Господа права мучить их и издеваться над ними. Я говорил им, что страдать осталось недолго, что там, в другой жизни, за все перенесенные мучения их ждет награда, награда, о которой только можно мечтать. Я рассказывал им о рае, о бескрайнем зеленом луге, поросшем молодой травой, не сентябрьской жухлой отавой, а густой-густой травой и цветами. Я говорил им это – и видел, что они давным-давно, с первого моего слова меня понимают, что Господь сделал так, что и я понимаю их мычанье. То есть и вправду между нами всё стало, как было до Потопа, когда люди и животные говорили на одном языке».
Дальше отец Иринарх снова показал, что сначала хотел только их утешить и успокоить, но это было невозможно, совершенно невозможно. Если бы им кинули хоть несколько снопов соломы, несколько на всю баржу, или просто дали напиться воды, которой столько было в паре метров от их морд!
«За что им это? – говорил отец Иринарх. – Неужели за то, что тысячелетие за тысячелетием они безропотно несли крест, что взвалил на них Господь? И тут, – показал отец Иринарх, – я вдруг ужаснулся этой несправедливости, не только тому, что выпало на долю стоящих передо мной на барже, но и всех-всех прочих животных, что кончают свою короткую жизнь, часами ожидая очереди на бойне, скользя копытами в крови своих предшественников, которых на их глазах разделывают мясники; ужаснулся, что ради того, чтобы мясо было чуть-чуть сочнее, их убивают медленно, не спеша, будто Господь не дал им чувства боли; что откармливают и режут совсем маленьких, сосунков, как их называют – молочных, не позволив прожить и десятой части той жизни, на которую они имеют право; что коров отвозят на бойню, едва они перестают доиться, хотя годами они были кормилицами всей семьи.
Я понимал, что в этом счете вина не одного человека, он и сам часто лишь жертва страшной жизни, которой мы живем, и всё же оставалось достаточно, чего простить было невозможно. Теперь я видел, что не имею права, не должен больше их утешать, не имею права вести с ними богоспасительные беседы о рае, это понял я, священник. Нет, мой долг – всех их, всех до одного, кто был на этих трех десятках барж, и всех других, кто этого пожелает, призвать восстать и сражаться до тех пор, пока человек не поймет, что отношения между ним и животными снова должны стать такими, какими были до Потопа.
И я сказал им это и снова увидел, что они меня понимают. Я увидел, что они готовы слушать меня и пойти за мной, куда ни позову. Они верили мне, верили, что я друг, который пришел им помочь. Сейчас я не знаю, хорошо ли, что они меня послушались, пошли за мной. Ведь я не смог им помочь, не смог дать, что обещал. Может быть, это и правда, то, что сейчас многие говорят, что всё было только к худшему. Но тогда я не знал, не мог знать, что будет дальше, – это я от них самих слышал, что я их пастух, их Авель, и они будут идти за мной, сколько хватит сил.
Когда я понял, что они готовы восстать, я сказал им, чтобы телицы и те из бычков, кто совсем ослаб, как-нибудь постарались перебраться в глубь центральной части палубы – скот на барже был набит так тесно, что это было нелегко, – и освободили место быкам, еще сохранившим силы. Началось медленное, очень медленное движение, потому что многие лежали и вообще не могли встать, десятки животных издохли и всех их надо было отодвинуть от борта баржи или помочь, уговорить встать и, поддерживая с двух сторон своими боками, перевести на несколько метров в сторону.
Это была неспешная тяжелая работа. Поскольку они были похожи друг на друга словно близнецы, я долго не понимал, получается ли у них хоть что-то, только видел, как, будто в омуте, плыли, колыхались рыжие спины. А потом вдруг всё разом кончилось – и прямо передо мной выстроилась в ряд мощная монолитная группа бычков, рожки у них еще лишь пробивались, но они, словно настоящие матерые быки, стояли, низко опустив головы, и глаза их были налиты кровью. Можете верить мне, можете не верить, но в них была настоящая сила, и я видел, что легко с ними справиться никому не удастся.
Они стояли передо мной, нетерпеливо переступая с копыта на копыто, тяжело дыша, и ждали команды. Едва я дал знак, они в одну секунду разметали деревянное ограждение палубы и вырвались на волю. Дальше они, словно дети, забыв обо всём, некоторое время толкались, скакали, играя, бодали друг друга на площадке возле шлюза, но потом сами снова построились и вместе со мной быстрым шагом пошли освобождать скот с других барж.