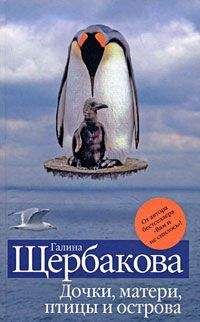- И правильно делали... Кто вам сказал, дорогуша, что жизнь кончается здесь, на бренной земле? Наукой установлено, что душа не умирает. В Соединенных Штатах каждый месяц оживляют до ста человек. До ста! Слышите? Каждый месяц сто душ уходят на тот свет, и их силой, против их воли, возвращают оттуда. Они хотят туда, но реаниматоры их не пускают. Души людей стремятся в тот мир. Они видят там своих родителей и родственников. Они рвутся к ним, и покидают их лишь, когда мать или отец им велят: "Возвращайся!" И даже тогда возвращение к нам для них мука. А вы: "Жизнь кончается здесь!"
- Чепуха, - хмыкнула бой-баба.
- Нет, уважаемая мамаша. Совсем не чепуха. Смерть - это не конец, а только переход в другое, высшее состояние. И вообще здешняя жизнь - еще даже и не жизнь, а так, черновик, репетиция. И попутно - испытание, ниспосланное каждому. Как бы экзамен - на выбор достойных для лучшего мира.
- Знаешь, сынок, не заливай мне баки. От тебя несет водкой и разит девкой. Не думай, будто поверю, что эти радости ты сменяешь на ладан и райское занудство. Так что охмуряй других, а я вумная... - Бой-баба затряслась обиженным смехом и покинула кухню.
"О переселении душ я мог бы послушать и Машеньку..." - подумал старик. Длиннокудрый его больше не забавлял, а усатая бандерша злила сильней прежнего, потому что всколыхнула еле-еле притихшую ревность к жене.
"Что же она, - подумал Челышев о Жене, - меня окрестила каменщиком, а этой все прощает? Бой-бабе можно - и приспосабливаться к власти, и жить на полную катушку, а мне не дозволено и малого люфта. Бывший каменщик должен дрожать в кооперативной норе, ожидая, пока его супруга соизволит явиться. А каменщик, между прочим, тоже мог бы ходить в офис". Старик забыл, что как раз Женя уговаривала его не выходить на пенсию и что нынче, на восьмом десятке, ему все равно пришлось бы сидеть дома. Но, забыв о возрасте, Челышев вспомнил об Америке, и ему стало совсем худо. Он поплелся в Машенькину комнату. Но Марии Павловне опять было не до отца: она самозабвенно скандалила с бой-бабой.
Бандерша, уязвленная спором на кухне, заявила Машеньке, что отпевание Варвары Алексеевны представляется ей весьма странным, поскольку Варвара Алексеевна не была верующей. Машенька злобно ответила, что, наоборот, мама была глубоко религиозна. Бой-баба снова возразила, что Варвара Алексеевна, умница и гедонистка, должна была презирать веру в потустороннее.
Тут в комнату вошел Токарев, но жену не осадил. Очевидно, сердился на бандершу. Впрочем, обуздать Машеньку было не просто.
- Да ты темна, как валенок! - кричала Мария Павловна. - Что в твоей глупой голове, кроме бебихов и цацок? Нацепила их на свои тухлые мяса - глядеть противно... Вера! Да ты знаешь, что такое вера? Думаешь, это всучить маме платье из Тбилиси, а мама поверит, что оно от Диора? Привыкла всем пудрить мозги, так и вера, по-твоему, - обман!? А ну катись отсюда, чтобы духа твоего не было! Назвал мой муженек всякую нечисть в христианский дом!..
Бой-баба, такая разухабистая и уверенная в себе, оторопело замигала голыми веками и начала сипеть и уменьшаться, как прохудившийся надувной матрас. Но вдруг, будто ее ужалили, опрометью кинулась из комнаты и, столкнувшись в дверях с Женей, расхлюпалась у той на плече.
- Что случилось? - спросила старика Женя.
- Не... не понял... - промямлил Челышев.
- Как же, Пашет?!
Женя нарочно не замечала падчерицы и Токарева, которого при падчерице укорять не могла. А старик зачарованно смотрел на раскрасневшуюся Женю, словно она впервые перед ним возникла, и его изумление длилось бы еще долго, если бы Машенька снова не закричала:
- Да что, Женька, базаришь? Чего к отцу прицепилась? Он мухи не обидит. Это я ее гоню. Думаешь, напилась? Трезвей тебя. Беги в свои Штаты, прибарахляйся! Не любишь ты России, вот что тебе скажу! - расходилась Машенька, словно Женя собиралась в Америку навечно. - Езжай. Колбасой катись. Совсем ты не русская. Русские - мы с Гришеком. Мы тут родились, тут умрем и никуда не уедем. А ты - мотай отсюда. Уведи ее, папа, а то я за себя не ручаюсь!
- Маша! - вмешался наконец Токарев, но так же, как в субботу, чересчур поздно. Пашет и Женя уже сбегали по лестнице.
Так старик остался один. Теперь Женя из лаборатории возвращалась рано, стряпала в кухне, читала в комнате (хорошо хоть на машинке не печатала), но как бы не замечала мужа. Они почти не разговаривали. Евгения Сергеевна не желала обсуждать свой отъезд, опасаясь, что Пашет разжалобит ее и отговорит. Старик же терзался молча:
"Бог с ней, с Америкой! Но к Надьке - означает назад, в сорок пятый год, к развилке жизни. Выходит, дождавшись меня, она (то есть Женя!) просчиталась и желает взглянуть, чем себя обделила. Ясно, я старый, ей со мной плохо. И Америка - это отыгрыш за долгие скучные годы с раздраженным, заевшим ее век склочником..."
Супруги молчали, но в квартире стало шумно. Бой-баба, преодолевая сопротивление Жени, все чаще приводила своих малопонятных приятельниц. Их голоса сливались в непереносимый гул, из которого старик с трудом выуживал: "ОВИР... Соединенные Штаты... Приглашение... Пустят... Не разрешат..." Прежде он не подозревал, что столько людей влюблено в зарубежье и тем только и занято, что мотается взад-вперед, словно в России им не жизнь, а каторга. Появление разодетых в пух и прах красоток сразу превратило комнату в нищую конуру. Распластав джинсовые юбки, позванивая браслетами, дамочки наперебой ругали руководство, что нещедро пускает их за границу.
"Должно быть, режим костерят мужья, а эти - попугайничают, - морщился старик. - Их мужья никакие не диссиденты, а попросту ленивая, падкая до барского пирога, болтливая челядь. Безземельная дворня. Они хуже холопов. Те хоть землю пахали, а эти по-холуйски лают бар, дескать, мало откидывают им барахла, жратвы и заграничных прогулок... Это какой-то особый орден. Не рыцарский, не монашеский, а номенклатурный. Ничего они не умеют, и никто, кроме нынешнего, столь же убогого начальства, кормить бы их не стал. Я боялся советской власти, работал даже больше, чем она требовала, откупался от нее как мог, только бы на несколько часов оставила в покое. А эти ни черта не боятся и обирают старуху Софью Власьевну, как альфонсы".
Джинсовые дамочки, словно заведенные, твердили:
- Нет, нет, двоим не подавать! Двоих не выпустят!
"Стало быть, я нечто вроде заложника", - мрачнел старик.
Женя меж тем собирала документы.
- Ну не дуйся, Пашет, - иногда все-таки приникала к мужу. - Ведь не навечно еду. Уверена, долго там не выдержу. Все у них другое, и они сами давным-давно не те. Альф не хромает, а Надюха нарожала дочек.
"Еще намек, - мучался Челышев. - Уехала, была бы с детьми..."
- Соскучиться не успеешь, а я уже вернусь. Понимаю, вокруг суетня. Эти невозможные тетки чего-то хотят. Той - отвези, этой, наоборот, привези. У каждой куча советов...
- Да я уже смирился. Но тебя за бабьей каруселью не видно.
- Вернусь - вся буду с тобой...
- Вернешься - тоже начнешь бредить: ах, Лонг-бич, ах, Пасадена! И тошно тебе будет в России, как солдату в казарме. Снова начнешь, как в увольнение, на Запад проситься...
- Не поеду... - вздохнула Женя, пораженная глубиной его печали. - Знаешь, самой расхотелось... Честное слово, обрадуюсь, если откажут.
Но судьба никогда не баловала Челышева, и Е.С. Кныш беспрепятственно выдали заграничный паспорт.
Последнюю неделю суетня достигла пика. Женя спала не больше двух часов в сутки, бегала по магазинам и приятельницам, одурев от недосыпа, наставлений и просьб.
- В самолете отдохну, - бодрилась она, обнимая мужа. - Пашет, ну что молчишь, глупенький?! Я же разревусь... Ведь не на всю жизнь... Отпусти хоть на месяц. Неужели месяца не выдержишь?
- Я не о себе... Но если тут - крутеж, то в Америке его - вдвое. Будешь носиться как угорелая: ничего не пропустить, все переглядеть, и свалишься от спешки и новых впечатлений...
В Шереметьеве - громадном стеклянном безликом бараке - провожавшие вздыхали:
- Все переменилось.
- Этой перегородки не было.
- И той - тоже...
А Павел Родионович не мог понять, чему же меняться, если все сплошь бездушное. Проведут после тебя тряпкой, и словно ты никуда не приходил. Как в небе - никаких следов...
"Но в небе, - подумал, - нету таможни".
На старика никто не обращал внимания. Окружили Женю и зятя. И прощались Женя и Гришка так долго, что старику почудилось, будто отлет предпринят женой лишь затем, чтобы вот так откровенно-безнаказанно при всех впиться в Гришку.
Но тут Женя, наскоро перецеловав приятельниц, прижалась к Челышеву.
- Пашет, прости... Вернусь, все будет по-другому...
Но обескураженный старик не вслушивался в ее всхлипы и лишь нетерпеливо ждал, когда жену позовут за перегородку из желтого и голубого пластика.
Все-таки до последней минуты Челышев не верил, что она улетит. Но Женя поднялась в воздух, и, отказавшись влезть в чьи-то "жигули", Павел Родионович заковылял к остановке.