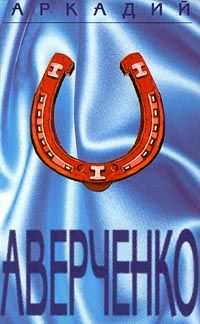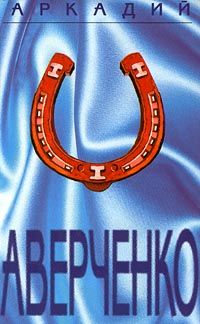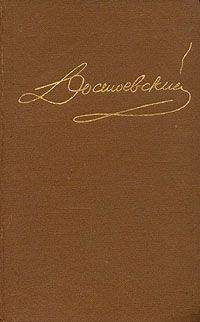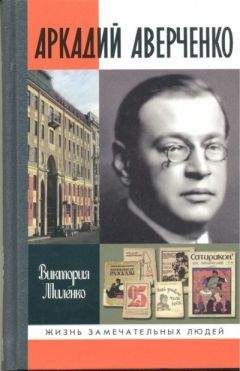— Ну, я возьму отпуск на 2 недели…
— Ни-ни… Мало. Тридцать лет! За этот срок вы успокоитесь, отдохнете, полечитесь…
— А… как же министерство?..
— Ну, есть о чем заботиться. Тут живой человек болен, а он о бездушном пустяке думает…
Товарищи суетились около захворавшего министра. Один из них сочувственно поглядел на него и подсунул какую-то бумажку…
— Что это?
— Пустяки. Простая формальность. Пустяковое прошеньице.
— О чем?
— Об, этой, как ее… Ну вот… Еще слово такое есть. Да это неважно — вы только подпишите… Там знают.
— Экая досадная штука, болезнь, — вздохнул председатель. — А ведь какой работник был!
— Где моя шляпа? — печально спросил бывший министр.
— Вот она. Не забывайте нас, голубчик. До свиданья. Выздоравливайте. Экая ведь незадача!
* * *
Когда бывший министр вышел из дверей, к нему подскочил репортер.
— В отставку уходите, ваше превосходительство? Не можете ли сообщить, По какой причине?
— А вот сейчас посмотрю… У меня есть копия с прошения…
Он вынул из кармана бумагу, развернул ее и сказал:
— Вот сейчас мы и узнаем. Где это? О! вот оно: «по болезни, связанной с усиленными занятиями»…
Вспоминая о случае в городишке В., я всегда улыбаюсь: так это было смешно и глупо…
Однажды жарким летом я приехал в городишко В. Сухая серая пыль лениво металась перед глазами, крохотные домишки притаились и дремали с полузакрытыми окнами, не в силах будучи поднять отяжелевшие от душной скуки ставни… Лениво бродил я по мертвому городку, не зная, чем убить время до поезда.
Неожиданно, среди этой мелкой приземистой дряни вынырнула громадная чудовищная вывеска, которая, казалось, царила над всей окрестностью, лезла вперед, ширилась и топорщилась, занимая собою полгоризонта.
Размеры этой вывески были таковы, что дом совершенно исчезал под ней. Как будто-бы — сделали сначала вывеску, а потом уже пристроили к ней домик. Вывеска меня заинтересовала.
Я подошел ближе, разглядел одно слово:
— «Колокол».
— Что это может быть? — подумал я. — Вероятно, это литейный завод. Отливают здесь, главным образом, колокола, почему весь завод и назван: «Колокол».
Подошел я еще ближе и разглядел на вывеске, под большим словом «Колокол» — два других помельче:
— «Страховое Общество».
— Вот оно что, — подумал я. — Это, вероятно, общество страхования от пожаров. Где только тут оно может помещаться?
И только когда я подошел совсем близко к загадочной вывеске, мне бросилась в глаза третья, самая мелкая, строка:
— «Страхование электрических звонков от порчи».
— Странные люди… — пожал я плечами. — Неужели, они для такого маленького предприятия должны были выстроить такую громадину?!
Инициаторы и владельцы этого странного предприятия не на шутку заинтересовали меня. Я решил полюбоваться на них собственными глазами.
Открыл крошечную калиточку, пролез в нее боком и сейчас же наткнулся на голоногую старуху кормившую морковью худощавого поросенка.
— Бабка, — сказал я. — А где общество?
— Которое?
— А это вот… «Страхование звонков от порчи».
— Ну?
— Так вот я спрашиваю, — где оно помещается?
— Что?
— Да общество же! Страхования звонков от порчи, под фирмой «Колокол».
— Да вон оно лежит! Ослеп, что ли?
— Что лежит?!
— Да общество же. С утра не продыхнет. Получит пятиалтынный за починку, насосется и валится, ровно колода. Тоже — мастер! Не люблю я чивой-то таких мастеров. Сынок мой.
Я сделал три шага вглубь дворика и, действительно, увидел под навесом разметавшееся «страховое общество». Было оно лет тридцати, того разнесчастного вида, который бывает у прогоревших мастеровых… Бороденка свалялась, волосы на голове сползли на сторону, и мухи сплошной тучей, окружали голову спавшего.
Это и было «Колокол, — страховое общество для страхования электрических звонков от порчи».
Очевидно, в свое время были у парня деньжонки, но ухлопал он их целиком на свою гигантскую вывеску, и теперь сладкий пьяный сон был для него предпочтительнее жалкого бодрствования…
Когда при мне теперь говорят:
— «Союз русского народа?!!»
Я вспоминаю:
— Страховое общество «Колокол»?!
И улыбаюсь. Так это смешно и глупо: громадная вывеска, а под ней пьяный человечек.
Случай с Симеоном Плюмажевым
Симеон Плюмажев был в этот вечер особенно оживлен…
Придя ко мне, он засмеялся: подмигнул, ударил меня по плечу и вскричал:
— Хорошо жить на свете!
— Почему? равнодушно спросил я.
— А вот Рождество скоро. Каникулы… Отдохнем от думской сутолоки. А вы почему… такой?
— Мне тяжело, вообще. Как вспомню я истязания политических каторжников в Зерентуе и их самоубийство — так сердце задрожит и сожмется.
Он протяжно свистнул.
— Вот-о-но-что… Да ведь это закона не нарушает.
— Что не нарушает?
— Да что их пороли.
— Послушайте, Плюмажев…
Он потонул в мягком кресле и добродушно кивнул головой
— Конечно! Статья закона гласит: «за маловажные преступления и проступки каторжникам полагаются розги не свыше ста ударов». Еще недавно по этой же статье до 1906 года полагалось, кроме розог, наказывать плетьми даже за маловажные поступки. Это отменено, о чем я весьма сожалею…
— Что вы такое говорите, Плюмажев?! Стыдитесь!.. Ведь вы же интеллигентный, культурный человек, член Думы…
— Вот именно, потому я и говорю. Раз человек в чем-нибудь виновен, он должен понести наказание. Под влиянием иудейского страха, под влиянием трусости, позорной трусости, многие начальники тюрем отделяли этих политических каторжников от обыкновенных и не приводили в исполнение, не применяли тех кар, которые закон повелевал применять. К счастью, нашелся в вологодской тюрьме, а также в зерентуйской тюрьме истинный гражданин, истинный человек, исполнитель закона, который в надлежащем случае выпорол надлежащее количество негодяев.
— Плюмажев, Плюмажев! — горестно всплеснул я руками. — Кто ослепил вас? Неужели вы не понимаете, что дело государства только обезвредить вредные для него элементы, но не мучить их… не истязать!
— Поррроть! — взвизгнул Плюмажев. — Раз он преступник — нужно его пороть!!
Я встал. Прошелся по комнате.
— Значит, по вашему, всякого преступника нужно пороть?
Плюмажев ответил твердо и значительно.
— Да-с. Всякого.
— Даже такого, который что-нибудь украл, утаил, присвоил?
Плюмажев замялся немного и потом ответил:
— Даже такого.
Я, пожав плечами, молча, позвонил. Вошел слуга.
— Пантелей! Позовите еще Евграфа и дожидайтесь в передней моих приказаний.
— Для чего это он вам? — засмеялся Плюмажев.
Я вынул из ящика письменного стола бумагу и развернул ее перед Плюмажевым.
— Знаете ли вы, Сеня, что это такое?
— Н…нет.
— Это, Сеня, копия с протокола, который составлен на вас за утаивание гербового государственного сбора.
— Ну-ну, — ненатурально засмеялся Плюмажев, — кто старое помянет — тому глаз вон. Порвите эту бумажонку — я вас хорошей сигарой угощу.
— Постойте, Сеня… Вы соглашаетесь с тем, что вы утаиванием гербового сбора обворовывали казну?
— Эко сказал! — засмеялся Плюмажев. — А кто ее нынче не обворовывает?
— Сеня! — торжественно сказал я. — Имели ли вы какое-нибудь наказание за это преступление? Не имели? Так, по долгу справедливости вы его будете иметь, Сеня! Я вас сейчас высеку розгами.
— Фома! — вскричал Плюмажев, как мячик вскакивая с кресла. — Ты не имеешь на это права!!
— Сеня! Я имею право, основываясь на твоих же словах: раз человек преступник — надо его пороть.
— Но ведь это же, вероятно, чертовски больно! Фома! Поедем лучше куда-нибудь в ресторанчик, а? Выпьем бутылочку холодненького…
— Нет, Сеня… как я сказал — так и будет Ты преступник — я тебя и выпорю. Эй, Пантелей, Евграф!..
Едва вошли слуги, как Плюмажев изменил растерянное выражение лица на спокойное, осанистое.
— Здравствуйте братцы, — сказал он. — Мы, вот того… с вашим барином пари подержали: больно ли телесное наказание розгами. Хе-хе. Думаете, небось: «чудят, баре!..» Ну, ладно. Если все хорошо будет, на чай получите…
— Никакого пари мы с ним не держали, — хладнокровно сказал я. — А просто я хочу его высечь за то, что он воровал казенные деньги.
— Thomas! — укоризненно вскричал Плюмажев. — Devant les domestiques…и
— Раздевайтесь, Сеня. Сейчас вы узнаете, приятно ли интеллигентному человеку обращение, за которое вы так ратуете…