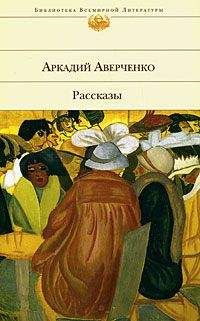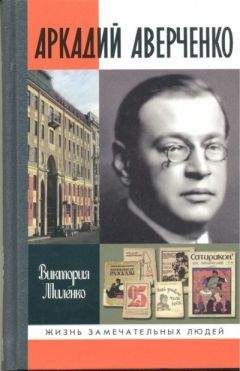Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.
– Что ты с ними сделала? – спросили мы мать.
– Продала.
– Много дали? – спросил молчавший доселе отец.
– Три рубля. Только не они дали, а я… Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром…
Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:
– Много ты понимаешь! Теперь он умер, мой отец.
В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей, и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.
– Вы редактор?
– Редактор.
– Ей-богу?
– Честное слово!
Он замолчал, пугливо посматривая на меня.
– Что вам угодно?
– Кроме шуток – вы редактор?
– Уверяю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?
– Не губите меня, – сказал молодой человек. – Если вы сболтнете – я пропал!
Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью – бежать.
Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:
– Э, нет, голубчик! Не уйдешь… Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..
Молодой человек упал на диван и залился горючими слезами.
Я развернул брошенную на стол бумажку. Вот какое странное произведение было на ней написано.
«Африканские неурядицы
Указания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными – все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья Далекого Конго от понятий европейской закономерности и порядка…
Вождь племени бери-бери Корибу, заседая в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы, будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»
Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:
– Вы хотите, чтобы мы это напечатали?
– Да… – робко кивнул он головой.
– Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!
Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:
– Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им благородного собрания.
– Какой вздор и какая нелепость, – возмутился я. – К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто – описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было… Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?
– Я думал, так безопаснее…
– А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто – наложил печати?
– А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? – прищурился молодой человек.
– Вы меня извините, – сказал я. – Но тут у вас есть еще одно место – самое чудовищное по ненужности и вздорности… Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание»? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?
Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:
– А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так – нука – пусть догадаются! Ха-ха!
На мои глаза навернулись слезы.
– Бедные мы с вами… – прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.
И так долго мы с ним плакали.
И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:
– Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы! И тоже плакали над своей горькой участью.
И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки – и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал… И так плакали мы все.
Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут…
Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные, представления и толкования слов, слышанных от взрослых.
Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.
«Это и есть хлопоты», – думал я.
И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.
Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот – в бегстве и бормотании.
С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.
Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.
Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на южный берег Крыма.
– Идея, – похвалили друзья. – Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.
– Похлопочи? Как так похлопочи?
– Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет. Куприн тоже хлопочет.
– Как же они хлопочут? – заинтересовался я.
– Да так. Как обыкновенно хлопочут.
Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы… У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.
– Ну, что ж, – вздохнул я. – Похлопочу и я. С этим решением я и поехал в Крым.
* * *
Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму – нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта – и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским… Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.
В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:
– Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.
– По какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны.
– А по какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны!
– Да по ка-кой при-чи-не?!!
– На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!
Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.
Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:
– Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что – это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли – ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной – за что же вы меня высылаете?.. Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?
Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:
– Могу.
Но вместо этого сказал:
– Удивительная публика… Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.
– Послушайте, – смиренно возразил я. – За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее и заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камушки… Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?