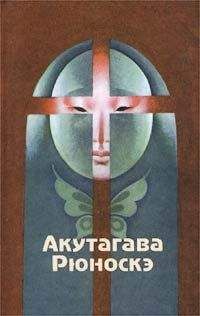Потом животность проходила. Но кайф оставался. Какие-то мечтания овладевали им... Он брал случайную книгу по математике из своей коллекции и ложился с ней на кровать. Очень не торопясь пролистывал ее, главу за главой. Понимать он ничего не понимал. Даже введение он не понимал, которое в принципе мог бы понять. Да разве ж в этом было дело! Формулы, термины, обозначения становились опять прекрасны, манящи, и он сам становился таким, каким был когда-то: чистым, юным, он тыкал в книжку пальчик, как когда-то давно... Гармония, нигде не трет, не жмет. Как яблочко. Или наоборот, а по сути то же самое: он представлял себя "молодым ученым", овладевающим знаниями, штурмующим научные вершины; он обязательно выучит что надо, он станет математиком, вернется на свой настоящий путь - и все пойдет так, как и должно идти. Все будет хорошо... Это была игра, но он даже и не думал, игра это или нет. Это была эйфория, усиленная действием таблеточек. На то и эйфория, чтобы не думать, что будет хотя бы через сутки. Он не вспоминал, что уже пятый курс подходит к концу, а он ничего не знает и не умеет, что он никак, никак уже не сможет вернуться назад.
Или податься куда-нибудь в дальние страны? Там он начнет новую, чистую, ЧИСТУЮ жизнь... Помесь Майн Рида с Толстым. "Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными..."
Но нет, это уж совсем экзотика, но математиком-то он еще может стать! Сколько ему лет-то всего, двадцать два, подумаешь! В конце концов, он кое-что все-таки знает! И отец поможет, нет, что ли?! Он у себя там кое-что значит! Это же так просто! Порой целых три дня он занимался чтением начала первой главы какой-нибудь из книг. Название которой в этот момент казалось ему наиболее соблазнительным. У психиатров есть термин: иллюзия помилования. Это когда человеку бреют шею, ведут на гильотину, а он все это время думает, что его ведут освобождать. Радуется, дурачочек, смеется.
Вообще-то все это было вполне реальным. Да, если захотеть, это было возможно; жизнь действительно не кончена в двадцать два года. Но не так, не так собираются стать математиками после окончания математического факультета. Неустанный, до полного отказа мозгов труд изо дня в день; административные заботы, тревоги; готовность вынести все, стиснув зубы - думал ли разве он о таком? Да нет, конечно! Он думал о чистоте, о гармонии, о счастье... Что-то беленькое, розовенькое, воздушное, неземное... Пока приступ прошел совсем недавно, а таблетка вовсю действует.
Примиренность. Примиренность с жизнью - вот что было самым главным. Не спорь с нею, не перечь, не доставай - и ты будешь сыном ее, а не пасынком. Смирись, не требуй того, чего она не может дать. Смирись, размягчись, впусти в себя БЛАГО ЖИЗНИ, ведь ты чувствуешь, что оно существует. Принимай с благодарностью жизнь за то, что она хотя бы такая есть. Не претендуй, не требуй, не ерепенься - живи просто так. Вмести жизнь своей душой, мудростью своей души. А этот твой - этот самый гений, есть там он у тебя или нет, - да какая разница, разве в этом дело?! Разве человек для того рожден, чтобы быть слесарем, математиком, маршалом, гением? Он - Человек. А то все - чушь, блажь, суета, неужели ты не чувствуешь этого? Мерзкие и пошлые соблазны...
Но ДОЛГ, страшный и ненавистный...
Он лежал и отдыхал, и вдыхал жизнь просто так. Ни для чего.
Когда ты только что избежал смерти, ты становишься очень нетребователен к жизни: любая жизнь тебя устраивает. Это уже потом ты опять начинаешь качать права: хочу того, хочу сего. Почему не то, почему не се.
Он узнал, что если во рту нет слюней, то говорить крайне затруднительно. Изо рта выходит что-то совершенно неописуемое. Сплошной дефект речи. Хотя разобрать все-таки можно.
Он стал бояться замкнутых пространств. В общем-то, особенно часто сталкиваться с ними ему не приходилось, но от лифта он отказался. Сама мысль, что он может там застрять, бросала его в ужас; он был уверен, что из лифта его извлекут уже в виде покойника. Ходить пешком полезно для здоровья. Но он начал еще и проверять входную дверь, не заклинило ли. Их дверь была устроена так, что совершенно невозможно было представить, чтобы ее могло заклинить. Но он по нескольку раз на дню открывал дверь и смотрел на лестницу, на свободу. Удостоверивался, что выход есть.
Выйти из дома без таблеток - это было немыслимо. Таблетки он носил в нагрудном кармане рубашки. И если оказывался вне дома, постоянно похлопывал по нагрудному карману, точнее, пролазил рукой сквозь все верхние одежды и там нащупывал упаковку с таблетками, долго мял ее там, заставлял себя поверить, что действительно не забыл. Иногда даже извлекал упаковку оттуда, чтобы проверить, а не кончились ли таблетки? Мало ли что. А то без таблеток... на улице... далеко от дома... каюк. Один раз он таки вышел из дома с пустой упаковкой. Хватился, - а таблеток-то в упаковке и нет! Приступ возник мгновенно. Вот так оно и случается... Вот так оно и бывает... И он домой шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел. И дошел, смотри-ка ты! Бабахнул двойную дозу. И стоял ждал, потрясенный, безумный, обожженный. Потрясенный предательством.
Дойти - вот это было очень важно. Если приступ долбанет прямо на улице, а сам страх перед ним мог его вызвать, и не только он; любая мелочь, крохотное воспоминаньице, любая вещь - куст или газетный киоск - могли вдруг вызвать страх, сначала смутный, беспредметный, но очень быстро обретающий конкретность - страх перед приступом, который, в свою очередь, моментально вызывал сам приступ; если он долбанет где угодно вне дома, - главное успеть, успеть дойти до него. Не свалиться по дороге, достигнуть, дойти. Таблетки под языком, но... Дойти. Успеть. Дома действительно как будто помогали и стены. Его родной дом внушал еще какое-то свое успокоение. Его было, конечно, недостаточно, но лучше с ним, чем без него. И даже когда он с родителями поехал в какие-то гости и там вышел прогуляться, и его долбанул приступ, он шел и шел назад, в ту квартиру, желая только одного - дойти до нее, до той квартиры, которую видел в первый раз и в которой будет пребывать всего несколько часов. На тот раз и это было какое-то подобие дома, куда можно вернуться, куда можно стремиться, идти и все-таки дойти. Какое-то подобие, какой-то пусть самый слабый образ дома всегда есть. Какая-то точка.
Дойти, доплыть, доползти...
Родители уже, конечно, вовсю знали, что с ним творится. Предлагали консультации различных светил, требовавших большого блата, предлагали лечь в такую же блатную клинику. Он тупо отказывался. Тупо и непреклонно, без всякой для них надежды быть уговоренным. Он и так знал, откуда это все. Никакими "консультациями" тут не поможешь. А таблетками добрейший врач во флигельке всегда безотказно обеспечит.
Он много раз всерьез думал, что эти таблетки - самое гуманное изобретение человечества. Вот атомные бомбы - это говно, а таблетки... В них действительно столько милосердия. Без всяких попыток исправить, направить, потребовать взамен. Чистая жалость. Чего уж с тобой делать... О-хо-хо...
Полюби жизнь. Полюби жизнь, мать твою! - а то она так навернет по хребтине - хрустнет только.
Выпученные глаза. Тоненькая струйка крови из угла рта.
Как это все переживают родители, он не думал. Вернее, он утешал мать, а в последнее время и отца, что все пройдет, все наладится. Это временное. Возрастное. А как дальше жить - ну распределят куда-нибудь, пойду работать. Все нормально.
Но по-настоящему он не замечал родителей. Разве что чуть больше, чем остальных людей. Остальные были тенями. Иногда к нему заходили друзья, Друг, Второй Друг. Он разговаривал с ними как ни в чем не бывало. Они ничего и не знали про него. А ему и в голову не приходило им что-то рассказывать. Хотя манера общения оставалась прежней. Но это была только манера, за ней ничего не стояло. И давно уже.
Но он не имел ни малейшего понятия, как жить дальше. Даже просто - как жить. Ему было нечего хотеть. Не было для него ничего такого - "хочется, потому что хочется"; когда ссать тебе охота, ты ж не спрашиваешь: а зачем это? а нужно ли это? Ничего такого не было. Он просто болтался в этом мире, как экскременты в проруби. И только когда наступал приступ, в жизни появлялась ясная, не требующая никакого обоснования цель - пережить его. И после него даже такая жизнь казалась счастьем.
Какие-то мысли варились потихоньку в голове. Он додумался, что на самом деле хочет одного - умереть. И это собственное желание смерти казалось ему едва ли не таким же страшным, как сама смерть. Все-таки не мог он до конца поверить, что в жизни, которую он почему-то привык считать прекрасной и удивительной, именно ему нет места. И когда приходил приступ, и он смертельно трусил, что сейчас помрет, - в этом было и некое утешение: раз он так боится смерти, то все-таки не хочет умирать. Подтверждение желания все-таки жить. Вот еще одно, чем был хорош приступ.
А на самоубийство, как оно ни страшно, при длительной моральной подготовке все-таки можно решиться. Страшно, страшно - а решишься. Год пройдет, два, пять. Он осознал это, и это тоже было страшно - что это хоть и трудно, а все-таки легко.