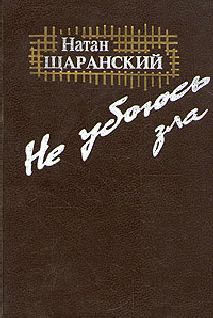Нечто в этом же роде произошло и с Цыпиным. В конечном счете нам стала известна его история. В семнадцатилетнем возрасте Цыпин был задержан КГБ с какой-то то ли еврейской, то ли диссидентской литературой. Угрозами парня заставили стать осведомителем. Когда мы разоблачили его, он пропал и больше не показывался нам на глаза. Через несколько месяцев на какой-то вечеринке соседка спросила ме-ня, знаком ли я с Цыпиным. Я ответил утвердительно. "Вы знали, что он работает на КГБ?" "Да, -- сказал я. -- А вам это откуда известно?!" Выяснилось, что Цыпин сейчас "учится" (точнее -- работает) в педа-гогическом институте неподалеку от Москвы. Руководство этого инс-титута симпатизировало диссидентам, и многие из них, исключенные из других учебных заведений или снятые с работы за инакомыслие, оказались там. Цыпина же взяли по настоянию так называемого "пер-вого отдела". Взять-то взяли, но кто-то из администрации предупре-дил студентов и преподавателей: осторожно -провокатор!
Я понимал, что и на следствии, и на суде мне еще предстоит встре-титься с ними обоими.
* * *
Три дня после внезапного исчезновения Фимы Шнейваса я провел в камере один. Но вот знакомая команда:
-- С вещами!
Когда я переступил порог своей новой камеры, ее обитатель сидел за столом и меланхолично переставлял костяшки домино -- как вы-яснилось, раскладывал пасьянс.
-- Тимофеев Михаил Александрович, -- представился он. Это был худой высокий человек лет пятидесяти, с тоскливым взглядом и усталым печальным лицом. В каждом движении Тимофеева, во всем его поведении чувствовались неторопливость и основатель-ность старого зека и в то же время подавленность, свойственная тому, кто попал в большую беду. И действительно, выяснилось, что он провел в Лефортово больше двух лет под следствием и су-дом, затем около года -- в зоне. И вот сейчас его привезли для проведения следствия по другому делу, где он проходит в качестве обвиняемого.
Когда я сказал, что арестован по шестьдесят четвертой статье, он спросил:
-- Это еще что?.. -- и тут же сам себя перебил, удивленно воск-ликнув. -- Измена Родине?! Никак границу перейти пытался?
-- Да нет, я сионист, -- кратко ответил я.
-- Сионист? Вот это да-а, -- протянул он ошарашенно. И, подумав, добавил, -- приятелей-евреев у меня было много, а сиониста вижу впервые.
Он смешал костяшки, вытянулся на нарах, дал мне несколько тол-ковых советов по устройству на новом месте и устало прикрыл глаза.
-- Сейчас я плохо себя чувствую, но еще будет время -- погово-рим, -сказал он.
Времени для разговоров действительно оказалось более чем доста-точно: мы с ним провели вдвоем в одной камере почти десять месяцев -- вплоть до окончания следствия по моему делу.
Тимофеев оказался не просто лояльным советским гражданином -- может быть, самым лояльным из всех, кого я встречал в ГУЛАГе, -- он был еще и убежденным коммунистом сталинской закалки, хотя, конечно, его, как и всякого арестованного, исключили из партии.
Родители Тимофеева были крупными чинами НКВД, и свою при-надлежность к элите он с детства воспринимал как нечто само собой разумеющееся: все эти спецраспределители, спецобслуживание, про-чие льготы были для него естественной платой за преданность власти, за "идейность", которая являлась предметом его особой гордости. Ти-мофеев удивительным образом сохранил уверенность в том, что Ста-лин был великим человеком, которого оклеветали завистники, что со-ветская власть -- самая справедливая и демократическая в мире, а все эти Сахаровы и Солженицыны -- иуды, продавшиеся капиталистам за тридцать сребреников. Теперь он с удивлением и недоверием присмат-ривался ко мне.
Интересно, что, несмотря на свой дубовый догматизм, Тимофеев так толком и не вписался в советскую систему и не сделал той карь-еры, которая ему по праву причиталась. Прежде всего потому, что, как ни странно, сама по себе карьера его не интересовала. Он, конеч-но, любил Сталина и советскую власть, но кроме этого, оказывается, -- еще и женщин, и интересную мужскую компанию, и футбол, и ги-тару, и даже стихи. Он и сам писал: я выслушал сотни его стихотво-рений и должен сказать, что среди них были вовсе не плохие, прони-занные живым чувством.
Вот такой попался мне сосед. Иногда по вечерам, если позволяло здоровье -- у Михаила Александровича было больное сердце, диабет, язва -- и налетало вдохновение, он устраивал настоящие концерты с чтением чужих и своих стихов и пением лирических песен, которые когда-то исполнял под гитару в компании друзей.
Обычно же Тимофеев предпочитал убивать долгие лефортовские вечера игрой в "тюремное очко" -- карты в местах заключения запре-щены, и вместо них изобретательные зеки приспособили домино. Мой сосед оказался на редкость азартным игроком и не потерял интереса к игре даже тогда, когда я стал его систематически обыгрывать.
Как же этот лояльный человек оказался в тюрьме? Его посадили за то, что он, выручая из беды двух своих приятелей, между прочим, евреев, посредничал в передаче взяток большому чину в прокуратуре РСФСР. В это самое время КГБ готовил крупное дело против взяточ-ников -- работников прокуратуры и держал их всех на прицеле. За-мешанный в так называемое "дело прокуроров", Тимофеев получил восемь лет лагеря.
В зоне он находился на сравнительно легком режиме, занимая одну из важных номенклатурных должностей: был Тимофеев председателем совета коллектива колонии, пользовался, как и на воле -- в "большой зоне", -"спецраспределителем", то есть жил в лучших, чем другие, условиях. Он уже собирался подавать на помиловку, но тут вдруг его снова "дернули" в Лефортово и предъявили новое обвинение: в разглашении какой-то служебной информации. Повод был смехо-творным, но моему соседу было не до смеха. И когда после первых жестких допросов ему дали понять, что и это дело может быть закры-то, и помиловка по предыдущему удовлетворена, если он поможет КГБ в подготовке процесса против своих бывших сослуживцев из Ко-митета по охране авторских прав, где Тимофеев работал юрисконсуль-том до своего ареста, -тот не заставил долго себя упрашивать.
Теперь он был правой рукой своего следователя, майора Баклано-ва, консультантом и экспертом по валютным операциям, которые про-ворачивали с зарубежными издательствами его бывшие друзья. Какие инструкции затребовать, как их трактовать, как лучше строить допрос того или иного провинившегося чиновника, Бакланов решал на осно-вании советов Тимофеева. Бакланов был парторгом следственного от-дела КГБ, Тимофеев -- тоже бывший партийный работник. Оба -- юристы. Оба -- большие любители скабрезных анекдотов и спорта. Словом, поговорить им было о чем. К тому же за разговором можно выпить чашку кофе, послушать по радио музыку, просмотреть "Со-ветский спорт". Так что нет ничего удивительного в том, что вскоре Тимофеев стал ждать очередного допроса, как молодой влюбленный -- свидания.
С первого же дня после возвращения в Лефортово Михаил Алек-сандрович стал получать больничное питание. Здоровье у него и впрямь было плохое, но, как я впоследствии убедился, подобное усло-вие отнюдь не является достаточным для получения калорийной пи-щи. Как, впрочем, и наоборот -зачастую оно даже не является не-обходимым для этого.
При всей разнице наших взглядов, убеждений, позиций, занятых нами на следствии, мы довольно неплохо уживались: делились про-дуктами и вещами, пытались отвлечь друг друга от грустных мыслей. По вечерам, играя в "тюремное очко", рассказывали друг другу о про-шедших допросах, соблюдая, конечно, при этом максимальную осто-рожность: мы ни на минуту не забывали о том, что отнюдь не явля-емся единомышленниками.
Но провокатор ли Тимофеев? Я внимательно слушал все, что он говорил, но никаких попыток узнать что-либо, заставить меня изме-нить свою позицию мой сосед не предпринимал, и потому я не спешил с выводами.
* * *
Тринадцатого июня я был вызван на очередной допрос. На сей раз Черныш не заводил разговоров на общие темы, не прощупывал мое настроение. Его интересовало только одно: мои отношения с коррес-пондентом газеты "Лос-Анжелес Таймс" Робертом Тотом.
Познакомился я с Бобом летом семьдесят четвертого года, вскоре после его приезда в Москву, на квартире Саши Лунца. Это был далеко не первый иностранный корреспондент, с которым мне к тому времени довелось беседовать, а когда через несколько месяцев я стал "споуксменом" алии, встречи с западными корреспондентами следовали одна за другой. Со многими из моих собеседников у меня сложились дру-жеские отношения, но ни с кем из них я не сошелся так быстро и близко, ни с кем не проводил столько времени, как с Бобом Тотом.
Роберт посылал в газету две проблемных статьи в неделю, так что большая часть текущей информации о преследовании евреев в СССР не могла попасть в его публикации. Однако вскоре после нашего зна-комства выяснилось, что нет более надежного человека, чем Боб, для передачи на Запад такой информации. Его интерес к нашим пробле-мам был глубоким и искренним. Кстати, его жена Пола была еврей-кой, у них было трое маленьких детей -- Джессика, Дженни и Джон, -- и Боб, сам не еврей, в шутку называл себя "примкнувшим к кла-ну".