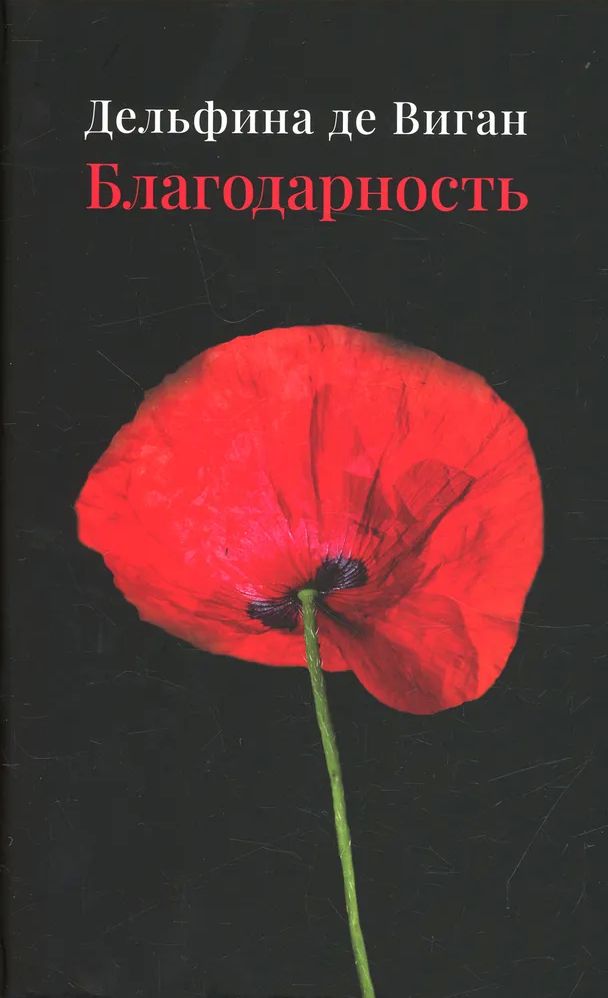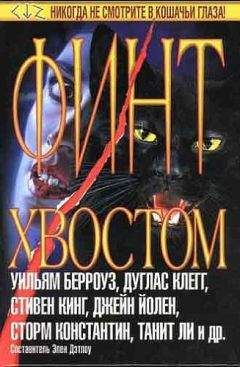за вас. Мы немного поговорили, и Мари сказала мне, что вы разыскиваете людей, которые спасли вас во время войны, и что вы подали новое объявление, но на него так никто и не откликнулся. Она видела, что это очень печалит вас. У меня не было никаких особых планов на отпуск, и я решил поехать туда. В Ля-Ферте-су-Жуар. Мне нравится импровизировать. Я остановился в приятной маленькой гостинице и несколько дней бродил туда-сюда, задавал вопросы в кафе, в булочных, на рынке, побывал у нотариуса, у врача. Наконец мне повезло: я отыскал старого сапожника, который знал Николь и Анри Ольфингеров. Имена совпадали; к тому же ему был известен слух, что в годы войны эти супруги прятали у себя еврейскую девочку. Сапожник объяснил мне, что у Ольфингеров есть дочь по имени Мадлен, она вышла замуж за человека из Ля-Ферте и живет там по сей день. Я отправился к ней. Она очень приветливо встретила меня и поведала ту же историю. Ее родители часто рассказывали, как все было. Они все помнили и думали о вас.
Я делаю паузу и внимательно смотрю на Миша. Она не сводит с меня глаз. Ждет продолжения.
— Вас к ним привела ваша мама. Она хотела отвезти вас в свободную зону и оставить у друзей в департаменте Роны. Но дорогу стали бомбить, и поезд остановился в чистом поле, неподалеку от Ферте-су-Жуар. Ваша мать взяла вас за руку, и вы пустились бежать. Наконец она увидела первый дом, он располагался примерно в километре от города. Мать посадила вас под дерево и велела ждать, не сходя с места. Она постучалась в дверь. Ей отворила Николь Ольфингер. Ваша мама уговорила эту молодую женщину, которую видела впервые в жизни, принять ее семилетнюю дочку. Она сказала: «Нужно забрать у меня малышку. Я вернусь, но сегодня ее нужно у меня забрать. Пожалуйста». Анри вышел на крыльцо, они с женой переглянулись и сказали «да». Ваша мама повторила, что вернется. Но она так и не вернулась.
Я делаю новую паузу. Всматриваюсь в лицо Миша. Оно не выражает ничего, кроме чрезвычайного внимания к моему рассказу.
— Они прекрасно понимали, что делают. Чем рискуют. Они сожгли ваше пальто с нашитой желтой звездой. Они прятали вас. Все это время. Соседям и друзьям они говорили, что вы их племянница. В октябре сорок третьего в Ферте-су-Жуар случилась облава, человек пятнадцать депортировали. Николь и Анри боялись, что на них донесут, и они спрятали вас под брезентом в сарае, там вы провели всю ночь, но, к счастью, никто не пришел. Война закончилась, и однажды утром в дверь их дома постучалась какая-то женщина. Двоюродная сестра вашей матери. Та успела написать ей письмо и по памяти нарисовала план, чтобы тетя могла отыскать вас. На случай, если дела пойдут плохо. Ваших родителей депортировали спустя несколько дней после маминого ухода из Ля-Ферте. Так звучит история, которую рассказала мне Мадлен, дочь Николь и Анри Ольфингеров, родившаяся после войны. Когда ее будущие родители приютили вас, они только-только поженились. Анри умер несколько лет тому назад, а Николь еще жива. Она живет в местном доме престарелых. Ей девяносто девять лет.
Миша сидит лицом ко мне. Слезы беззвучно текут по ее щекам.
Я беру ее ладони в свои: они такие холодные, что мне становится страшно.
— Миша, как вы? Мне продолжать?
Она кивает.
— Я навестил Николь Ольфингер. Она ослепла и плохо слышит. Но она в совершенно здравом уме. Я рассказал ей о вас. О том, как вы разыскивали их. Но вы не знали их фамилии. Она поняла. Я взял на себя смелость сказать ей, как важно для вас выразить им свою признательность. Она была очень тронута. Еще я сказал, как вы будете счастливы узнать, что она еще жива. Узнать, что еще не слишком поздно. На мой вопрос, как они продержались те три года, она ответила словами, которые я запомнил наизусть: «Мы говорим „нет“ худшему. А потом у нас просто не остается выбора». Да, и еще она сказала: «Такими поступками не кичатся».
Миша прячет лицо в ладонях.
— Вы знаете, Миша, я тоже плакал, когда вышел из ее комнаты.
Несколько минут она остается в этой позе.
— Представляю себе, сколько чувств вы испытываете…
Она не отвечает. Но я слышу ее дыхание, слышу, с какой решительностью она сдерживает рыдания.
— Весной можем попытаться свозить вас туда. Кто знает?
Она опускает руки и поднимает глаза.
— Да… но… я так… обезусилела. Мозвожно.
— Если хотите, я приду завтра с блокнотом бумаги для писем и помогу вам написать несколько строк. Хорошо?
Ее подбородок дрожит, но слезы больше не текут.
— Порошок.
На следующий день, когда я только вхожу в ее комнату, она уже сидит за столом.
Она готова.
Я сажусь сбоку.
Кладу перед нею блокнот, даю один из своих карандашей. Я помню, что ручки и фломастеры ей не нравятся. Она хочет быть уверена, что можно стереть, начать заново.
Несколько минут она сидит склонившись над бумагой и подняв карандаш. Ждет, когда придут слова.
Я понимаю, насколько редкими гостями они стали. Такие далекие, перепутанные, погребенные.
— Вам нужна помощь, Миша?
Она качает головой.
Я отхожу от нее.
Сажусь на край кровати и смотрю в окно.
Мы никуда не торопимся.
Я вижу, как она пишет. Очень медленно. Написала от силы десяток слов. Ее рука дрожит, но она старается. Я знаю: в эти мгновения она отдает все, что у нее осталось. Сжигает последний порох.
Я слышу скрип карандаша. Она сильно надавливает на бумагу.
Я готов улечься на постель и вздремнуть. Потому что в этой комнате, рядом с этой пожилой дамой, я непостижимым образом чувствую себя в безопасности.
Она закончила.
Она складывает лист.
Не заглядывая в текст, я кладу письмо в конверт и запечатываю его у нее на глазах. Она имеет на это право, она заслужила уважение. Я надписываю адрес дома