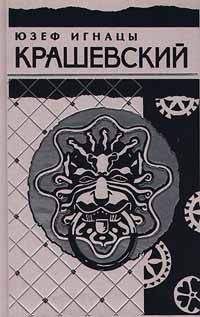который сам никогда не чувствовал (доказательство — жизнь этого Юпитера), но превосходно знал анатомию чувств, как Cuvier, который, не видя мастодонтов, отгадывал их организацию.
— Можно ли так строго судить того, кто создал любовницу Фауста?
— Конечно, потому что жизнь писателя — это камень испытания.
— Нет, вы ошибаетесь; мне кажется, что жизнь поэта разделяется на две категории: обыденная и праздничная жизнь; часто между ними целый мир противоречий: в одном теле заключены два человека. Поэт не может в течение всей своей жизни обладать даром вдохновения.
— Все же хоть тусклая искра остается в нем навсегда.
— Мы затронули слишком высокий вопрос.
После минутного молчания она прибавила: «читайте дальше».
У меня выпала из рук книга, я смотрел на нее глазами, какими смотрел Яков на Терезу; но пугливая любовь боялась сойти с языка, не зная, что ее ждет. По глазам только можно было прочесть мое желание. Я чувствовал, что нужно было или уйти, или же все высказать в одном слове.
Ирина бросила на меня магический и испытующий взгляд, который, казалось, готов был вырвать тайну из моей груди. В беспамятстве я схватил шапку.
— Куда вы? — спросила она.
— Я?.. Не знаю… (сам не помню, что ответил, бросил опять шапку, и сел вдали на стул).
— Что с вами?
В отчаянии, как молния, промелькнула у меня мысль сказать ей все, а потом уехать, уехать навсегда.
— Вы меня спрашиваете? — возразил я с лихорадочным беспокойством. — Год уже, как я гляжу на вас, страдаю, молчу — этого довольно, даже слишком много. Пускай осуждают меня, пускай говорят, что хотят, наконец, оттолкните вы меня с презрением, — удивлю ли я вас, если сорвется с моих уст давно давящее меня слово — люблю!
Ирина была, видимо, взволнована; голос замер на моих устах, я чувствовал, что решается моя участь, но не знал чем закончить и быстро подошел к Ирине.
Она молча подняла свои красноречивые глаза; долго, долго смотрела на меня, и наконец, подала свою дрожащую руку.
Это была минута настоящего блаженства и немого счастья; нет слов, чтобы выразить ее и никто не в состоянии описать этой торжественной минуты. Ее дрожащая рука в моей руке — это был брак перед Всевидящим Оком; потому что такая женщина, как она, не подает напрасно руки мужчине, не связав ее навсегда с судьбой любимого человека.
Мы долго еще сидели — она на диване, я возле нее на стуле, в торжественном и упоительном молчании. Наконец, она встала и слабым голосом проговорила:
— Можно ли тебе верить? Неужели ты, ради минутного, легкомысленного счастья, сделаешь своей игрушкой всю жизнь женщины?
Я не нашелся, что ответить, клятвы оскорбили бы ее и меня; но по глазам моим и по нескольким несвязным словам она видела, что я не лгал. Я уехал в упоении, как безумный; еще теперь пишу в горячке, вероятно, уже последнее письмо — счастливые не пишут. Прощай,
Юрий.
XXII. Ирина к мисс Ф. Вильби
Румяная, 11 ноября 18…
Вперед прошу тебя, милая Фанни, не удивляться растянутости моего письма; я хочу тебе открыть все то, что касается меня, чтобы, прочитав мою историю, ты вознесла с молитвою глаза к Всевышнему. Я верю в могущество благословения и в силу желаний истинного друга. В последнем письме [34] я извещала тебя, сколько мне помнится, что отношения наши не переменились. Мой опекун, хотя не препятствует с прежней злобой Юрию искать моей руки, чему, впрочем, нет явных доказательств, но он предугадывает это инстинктом своей привязанности ко мне, тем не менее пользуется еще всяким случаем, чтобы представить мое будущее в мрачных красках. Но теперь он обратил на него все внимание и даже переменил прежнее, невыгодное о нем мнение, сделался к нему добрей и теперь только молчит.
Однажды, когда разговор зашел об Юрии, конюший отозвался:
— Конечно, и теперь не иначе скажу: он ветрогон и больше ничего; но имеет хорошее основание, характер, в нем течет благородная кровь. Его-то вполне винить нельзя — сирота, пущенный на волю, он шел, куда глаза глядят.
— Слава Богу, вы сами стали оправдывать его.
— Нет, милостивая государыня, вы ошибаетесь, я нисколько не оправдываю его. Он шалопут, вертопрах, но что делать: нужно принять его, каков он ни есть.
— Вы говорите, что его нужно принять? — спросила я с улыбкой.
Старик испугался.
— Напротив, не нужно его брать! Зачем его брать, пускай черти берут его!
Он посмотрел на меня, я улыбнулась.
— А что, — сказал он, — пока я разъезжал по делам, не сделал он тебе втихомолку предложения?
— Нет не он, но я, может быть, сделаю ему предложение, потому что другого исхода не вижу.
— Так вот до чего дошло! Старик ломал руки.
— Он любит меня.
— Ба! Нет ничего удивительного!
— И я его люблю.
Он схватился за голову, побежал по комнате, возвратился назад и воскликнул:
— Не пугай меня! Правду ли ты говоришь?
— Я люблю его, — повторила я опять.
— Теперь только остается, — сказал он с горькой иронией, — поехать в Западлиски и сделать ему предложение, а потом заехать за ним в карете и взять его в Румяную. Прекрасно, прекрасно!
— Ну, а если дошло до этого?
— Это безумие!
— Называйте, как хотите.
— Подожди, по крайней мере, пускай он сделает тебе предложение.
— Но он такой застенчивый, я никогда от него не дождусь этого.
— Он застенчивый? Маленький ребенок, бедняжечка!
— По крайней мере, он никогда ни слова не говорил мне об этом.
— Расчет! Цыганская штука!
— Можно ли так осуждать человека?
— Я не осуждаю его, но боюсь.
— Бог поможет.
— Эх! Знаете ли вы пословицу: береженого — Бог бережет. Я твой опекун и не хочу им быть на одной только бумаге. Помилуй, не делай скандала — ожидай!
— Хорошо, я буду ждать. Он поцеловал мою руку.
— Но если уже на то пошло, вы не будете, папаша, сопротивляться?
Старик подумал.
— Разве ты не делаешь со мной все, что захочешь? Эх, не будь я так слаб, имей я более власти над самим собою, я никогда не согласился бы на этот брак.
После этого разговора он уехал, и как сам сознался мне теперь, поехал прямо в Западлиски. Он уверял Юрия, что во мне нет никаких чувств, что я безжалостно отказала нескольким искателям моей руки, что я живу одним разумом, но не чувством; он надеялся отклонить Юрия от предложения. Усилия его были напрасны, потому что Юрий никогда не был слишком смел со мною. Наконец, настала решительная для меня