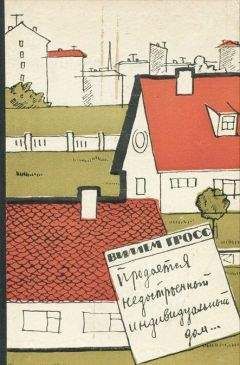- Разные пути есть, мы и начали с этого. А коли взошел на корабль покаяния, доверься кормчему - он вас мимо той пристани никак не провезет...
Колокольчик звякнул, пропел мелодично: "Пришел кто-то..." - успел подумать Лев Ильич. Дверь открылась, и Лев Ильич обомлел, а больше всего от того, что первым его чувством была неприязнь, раздражение: это уж слишком, многовато, зачем так все сходится? Иль от того, что Верины слова в нем засели?.. Сам себя устыдился Лев Ильич, даже испугался - такая гадость полезла в голову, а человек ему ничего плохого не сделал, самому ж интересно с ним было. Он только взглянул на Веру - она тоже недоуменно пожала плечами.
- Вот хорошего как, - проговорил меж тем Кирилл Сергеич, - спасибо, пожаловали. А у нас гости, знакомьтесь, блины, вон как кстати.
- Да уж и не знаю, кстати ли, но Марию Кузьминичну поздравляю с именинами, - на Косте белая рубашка с галстуком, дешевый костюм отутюжен, он протянул Маше букетик в целофане - хризантемы.
- Вот он, мужчина, а я, балоболка, его не жалую! - воскликнула Маша, стул подле себя отодвинула. - Садитесь, Костя, буду за вами ухаживать.
У Кости лицо не дрогнуло, как Льва Ильича с Верой разглядел, только глаза чуть сощурил.
- Вон как, Лев Ильич, у нас с вами дорожки сходятся.
- А вы знакомы? - поразился Кирилл Сергеич. - Что ж вы, Костя, давно его мне не привели? Мы сейчас подсчитывали - двадцать пять лет знаем друг друга, а почти столько же и не виделись... И Веру Николавну знаете?.. Вот и славно.
Из-за спины Кости показался еще один гость: совсем молоденький паренек с румянцем во всю щеку, светлая прядь волос падала на широкий лоб, широко расставленные глаза смотрели смущенно, но смело, из распахнутого ворота ковбойки выглядывала тоненькая мальчишеская шея.
- Да, - замешкался Костя... ("Ага, все-таки сбился, нас увидев, конечно же, никак не ожидал", - удовлетворенно отметил Лев Ильич, а то уж такой был респектабельный выход, не позабыл бы...) - я, извините, не представил вам своего молодого друга. Федя Моргунов, давно мечтал с вами, отец Кирилл, познакомиться, никогда не видел живого священника, не верил, что бывают...
- Я никогда вам такого не говорил, - Федя залился краской, даже лоб покраснел. - Охота вам меня сразу дураком представлять?
- А не сразу можно? - улыбнулся Костя.
- Ну, если заслуживаю, - у Феди глаза отвердели. - У меня с церковью сложные отношения - смахивают на провинциальный театр, а священники чаще такие любители, вот мне и хотелось увидеть не на сцене или за кулисами - в жизни.
- Вон какого привел! - сказала Маша. - Садись-ка, зритель, блинов наших отведай, только честно скажешь, любительские иль профессиональные. Вот как с блинами разберешься, тогда мы и о церкви поговорим.
- Садитесь, садитесь, - приглашала Дуся, - что вы на него напустились, человек первый раз пришел. Вы сначала закусите - грибочки, селедочка, а я сейчас вам горяченьких, у меня дожидаются в духовке.
- Спасибо, - румянец на щеках у Феди полыхал все ярче, - я не голодный.
- Да чего там, - сказала Маша, - мы все ныне сытые, достигли, а раз пришел, признавай наш устав. Так я говорю, отче?
Кирилл Сергеич всем налил, Дуся вошла, на блюде дышала еще такая же горка блинов, она ее утвердила посреди стола. Все еще раз выпили за именинницу.
- Рыжики, грузди... - угощала Дуся.
- А мне интересно, - сказал Кирилл Сергеич, - ваше заключение насчет провинциального актерства на чем основано, вы с чем-то сравниваете, или просто другого не знаете?
Федя не мог ответить, он только заправил блин в рот, да по совету хозяйки подтолкнул его туда рыжиком, у него даже слезы выступили на глазах. Он рассердился.
- Мне сравнивать не с чем, - получил он, наконец, возможность говорить, а что видел, в полном соответствии с тем, что только и может быть. А как же иначе? Я, скажем, прихожу сегодня в церковь, вчера на луну слетал, еще за день до того пересадил умирающему сердце от свеженького трупа, в кармане у меня транзистор - футбол передают из Мексики, а тут, в церкви, все как при царе-Горохе: те же свечки, тот же безголосый хор, язык, давно уж его никто не понимает, одеяния - от них, как в музее, нафталином пахнет, от тоски скулы воротит, десять убогих старушонок и мужичонка колченогий. А священник в этом своем допотопном азяме делает вид, что ничего за стенами не изменилось - то есть, ни луны, ни транзистора, ни современной медицины. Да еще старушонки-святоши за руки хватают...
- Чего ж они тебя сердешного схватили? - искренне изумилась Маша.
- Да кто их знает - не понравилось, что я руки назад сложил. Не нравится! Видно, еще до татар такое правило установили.
- А я напугалась, ну думаю, чего он там своими руками размахивал? Эх, философ! Старушки те не в музей пришли, не глазеть на диковину - домой. А дома, погляди на свою мать, разве она руки за спиной когда сложит, они у нее беспременно делом заняты: то исподнее твое отстирать, то тебе кашку сварить. Да, небось, и самому стыдно дома туристом похаживать?
- Какой дом, когда говорят не по-нашему - ни слова не понять.
- Ну они-то, может, понимают? - это Вера спросила. - Вы за себя сейчас говорите или за других, за кого ничего не знаете?
- Что ж другие, они не сейчас живут, не по тем же улицам ходят?
- Ну да, - сказала Вера, - в смысле транзисторов, конечно, большие произошли изменения на планете.
- Нет, почему же, - сказал Кирилл Сергеич, - есть такая точка зрения, что нынешняя церковь консервативна, не учитывает изменений, происходящих ежегодно в мире. Верно, не учитывает. Но беда ли ее в этом, вот где вопрос? Может, в той консервативности как раз ее сила? Вы подумайте, какие невероятные изменения в мире, да хоть за последние двести, сто, даже пятьдесят лет - прямо эпохи новые, геологические. И все, заметьте, разрушается,
самое, казалось бы, прочное, на века строенное, чему рукоплескали, чем восхищались, гордились - никто и не вспоминает. А церковь стоит. Татары, Петр, большевики или, как в школе учат, рабовладельчество, феодализм, капитализм, социализм - а церковь стоит.
Может, в этом ее консерватизме и смысл, а чем, как не высшим смыслом, вы это чудо объясните?
- Да мало ли чего стоит, - Федя потянулся было к блинам, но опять рассердился, налил себе рюмку, выпил. - Вон стена китайская стоит, еще может, древней, а какой в ней смысл - одна историческая нелепость... Да нет, глупость сморозил, вы не подумай-те, я к вам не спорить пришел, не уличать вас в обмане! - вскричал он вдруг. - Это я потому, что Костя меня дураком представил... Я вам этого, Костя, не прощу, - сверкнул он на него глазами. - Я подумал, может, вы мне мое главное, предельное сомнение разъясните? Что ж, церковь - это обряд, традиция, нужна старушкам, ну и Бог с ними, пусть ходят, раз им хорошо. Пусть любительская служба, профессиональная - пускай их! Можно, ведь, и без церкви - Бог он где хочет живет, но вот, чтоб поверить! Я чувствую, вижу, без веры все расползается, а с Богом стройно, все на свете объяснимо, все без вранья и жалких научных допущений, когда библейское объясняют социальным, а философию физиологией. Но коль поверишь, как самое главное примирить? Я, может, вам, конечно, ребенком кажусь, про это все написано, сказано, все обсудилось, известно - но то в чужой книжке, а это мое, мне самому себе как объяснить?
- А вы себя не стыдитесь, - сказал Кирилл Сергеич, - он совсем по-другому глядел на Федю, мягко ("Чтоб не смущать", - подумал Лев Ильич). - Чего извиняться, когда вы о таких серьезных вещах говорите. Что же вас так смущает, что не дает поверить, когда уже почувствовали необходимоть, в себе услышали, поняли?
- Главный, вечный - страшный вопрос, на котором все себе головы расшибали. Но про всех-то - зачем мне, он у меня свой? - у Феди даже кровь отхлынула от щек, побледнел, видно, правда, был в недоумении. - Хорошо. Бог. Шесть дней, грехопадение, потоп, Христос, даже Воскресение - и это можно представить, как ни дико, - пусть символика, все равно стройно, прекрасно - все на месте. Соблюдайте заповеди, или хоть старайтесь соблюдать, покаяние... - он заметил, что Кирилл Сергеич глянул на Льва Ильича, и остановился сразбегу. - Ну вот, я ж говорил, вы будете смеяться...
- Бог с вами, - сказал Кирилл Сергеич, - зачем вы так меня обижаете? Мы только-только до вас со старым моим другом Львом Ильичем говорили о покаянии. Но с другой стороны, совсем иначе. Я слушаю вас очень внимательно.
- Можно я еще выпью? - спросил Федя, прямо по-детски у него вырвалось.
- Видите, какой я плохой хозяин, - заметил Кирилл Сергеич, - и верно, любитель - не профессионал.
- А блины замечательные, - первый раз улыбнулся Федя, - и правду вы сказали, - посмотрел он на Машу, - мама у меня тоже такие печет, редко, правда.
- Видишь, как, - сказала Маша, - все и выходит правильно.
- Нет, но я хочу договорить, спросить!.. - заспешил Федя, испугавшись, что его перебьют. - Но как все-таки быть и понять, как поверить, что это все не жуткая бессмысленность - невозможно ж вообразить себе Божье злодейство? Как понять Бабий яр, Архипелаг, или, мне еще ближе, - бабушка моя умирала? Она всю жизнь была голубь чистая, только шишки на нее валились со всех сторон, только добро делала всем, кто бы с ней ни соприкасался. А умирала целый год, я и в книгах не читал, чтоб так человек мучился - за что? А она сдерживалась, не жаловалась, но я не могу и никогда не смогу забыть ее страданий, ее недоумения... Постойте,- ему показалось, что Кирилл Сергеич хочет что-то сказать. - Я договорю. Что ж будет там, где вечная жизнь, она будет сидеть рядом с каким-нибудь медным лбом, который моего деда допрашивал, здесь вон, поблизости, на Лубянке? Я деда своего никогда не видел, до того его додопрашивали, что дед, уж такой, говорят, крепкий был человек, а такую на себя напраслину наговорил, да ладно бы про себя - ни в один роман не влезет... Да нет, не рядом, тот изувер, может, крещеный, покаялся перед смертью, он-то одесную сядет, а неверующая моя бабушка на сковородке - так, что ли? Ну как здесь во что-то поверить, не счесть злой, страшной бессмыслицей, безнравственнее, чем рассуждения про обезьян, которые из палок понаделали себе луки, а потом Библию написали? Как жить с этим?..