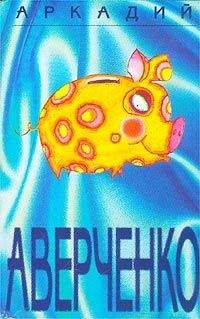— Это еще что за арго?
— Болгарский язык. Я теперь по-болгарски учусь.
— На какой предмет?
— В славянские земли еду.
— На какой предмет?
— Петь там буду. Я певец. Петь буду.
— На какой предмет?
— Деньги зарабатывать. Там, говорят, очень выгодно для актеров. Болгары — чудесный народ.
В это время к моему собеседнику подошел другой актер. Поздоровались они:
— Живио.
— Наздар!
— Скро едъм?
— Как тлько блгарскую взу плучу-та.
— Вы тоже едете? — спросил я.
— Обязательно. Все едут: Звонский, Кринский, Брутов, Крутов, Весеньев и Перепентьев.
— Позвольте… Вас я еще понимаю, что вы едете: ваша специальность — балалайка… Так сказать, международный язык! А что там будут делать Брутов и Крутое? Ведь они драматические.
— Драму будут играть.
— Но ведь болгары не понимают по-русски!
— Поймут! Все дело в том, что из пьесы нужно все гласные вымарать и к каждому слову «та» прибавить. Тогда и получится по-болгарски. Сейчас помощник режиссера сидит и вымарывает, актеры даже рады: меньше учить придется. Здраво-та?!
— Крпко здраво, — улыбнулся я.
— Вот видите — вы тоже уже научились. Это ведь быстро! Пресимпатичный язык! Когда едете?
— Я не собираюсь.
— Неужели?! Первого человека вижу, который не едет в славянские земли!
— А что мне там делать?
— Писать будете. Написали рассказ, вычеркнули все гласные, да и марш в газету. Как говорится: марш, марш, генерале наш!
— Вздор! Дурацкая мсль-та!
— Ничего не дурацкая. В славянских землях многи листа излази.
— Чего-о?
— Я говорю: многи листи излази. По-нашему — много газет выходит. А театр, по-ихнему, — позорище.
— Вот видите. А вы едете.
— Да ведь не я один. И Громкий, и Самыкин, и Зуев, и Заворуев — все едут.
— Как Заворуев?! Ведь он не актер!
— А он хорошо на пробке играет. Зажмет пробку в зубы и ну по щекам пальцем щелкать. Любой мотив изобразит.
— Гм… да… Теперь я понимаю, почему театр по-славянски — позорище.
— Самыкин, хотя он и беговой наездник, — у нас он будет знаменитым славянским стрелком.
— Ну, дай ему Бог настрелять побольше.
Подошел к нам Сеня Грызунков, существо, умственный багаж которого не позволил бы своему обладателю и до Кады-Кея без посторонней помощи доехать.
— Здрав буди, — сказал Сеня, здороваясь со мной. — Ну, братцы, поздравьте! Исайя, ликуй. Получил заграничный паспорт и еду в церковнославянские земли!
— Сеничка, — сочувственно сказал я. — Как же ты поедешь в церковнославянские земли… Ведь там, поди, церквей много?..
— Ну, так что ж…
— А вашего брата и в церкви бьют.
— Мой брат и не едет. Он в Совдепии застрял. А мы с Маничкой Овсовой едем. У нее позавчера в половине пятого голос открылся. Настоящая Нежданова. Будем цыганскими романсами работать. Едем я, она и ее тетка. Гайда тройка!
* * *
Пришел я домой, взглянул на карту Болгарии, и сердце у меня сжалось:
— Больно-та мала страна-та. Но тут же и успокоился:
— Это ничего, что страна маленькая, зато сердце у нее великое. Душа гостеприимная.
Вижу отсюда, что пригреет Болгария, по мере возможности, и Громыкина, и Самыкина, и Зуева, и Заворуева.
Трагедия русского писателя
Меня часто спрашивают:
— Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?
— Боюсь, — робко шепчу я.
— Вот чудак… Чего ж вы боитесь?
— Я писатель. И поэтому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.
— Эва! Да какая же это родная территория — Константинополь?
— Помилуйте, никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля — шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел — со швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь — слышишь:
Матреха, брось свои замашки,
Скорей тангу со мной пляши…
Подлинная черноземная Россия!
— Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?
— Тому есть примеры, — печально улыбнулся я.
— А именно?..
Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю.
О русском писателе
Русский пароход покидал крымские берега, отплывая за границу.
Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил:
— Прощай, моя бедная истерзанная родина! Временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячат Эйфелева башня, Нотр-Дам, Итальянский бульвар, но еще не скрылась с глаз моих ты, моя старая, добрая, так любимая мною Россия! И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя» на Конюшенной, где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой! На всю жизнь врежешься ты в мозг мне — моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия!
Жена стояла тут же; слушая эти писательские слова, — и плакала.
* * *
Прошел год.
У русского писателя были уже квартира на бульваре Гренель и служба на улице Марбеф, многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому, уже у него были свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем недурное «ординэр»…
Пришел он однажды домой после кролика, после «ординэр'а», сел за письменный стол, подумал и, тряхнув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине.
— Что ты хочешь делать? — спросила жена.
— Хочу рассказ написать.
— О чем?
— О России.
— О че-ем?!
— Господи Боже ты мой! Глухая ты, что ли? О России!!!
— Galmez-vous, je vous en prie[4]. Что ж ты можешь писать о России?
— Мало ли! Начну так: «Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге… Высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской…»
— Постой! Разве такая улица есть в Петербурге?
— А черт его знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верности Невскую улицу! Итак: «…высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к „Медведю“. „Что, холодно, monsieur?“ — спросил метрдотель, подавая карточку. — „Mais oui[5], - возразил молодой сей господин. — Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм!“»
— Послушай, — робко перебила жена. — Разве есть такое слово «замерзавец»?
— Ну да! Человек, который быстро замерзает, — суть замерзавец. Пишу дальше: «Прошу вас очень, — сказал тот молодой господин. — Подайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais[6] и одну рюмку рабиновку».
— Что это такое — рабиновка?
— Это такое… du водка.
— А по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка — жена Рабиновича.
— Ты так думаешь?.. Гм! Как, однако, трудно писать по-русски!
И принялся грызть перо. Грыз до утра.
* * *
И еще год пронесся над писателем и его женой. Писатель пополнел, округлел, завел свой auto — вообще, та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, — щедро оплачивала его — «сет селебр рюсс»[7].
Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже, царя храни…». Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России…
— О, нотр повр Рюсси![8] — печально думал он. — Когда я приходить домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Руссия.
Пришел. Сел. Написал:
«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль петербуржьен[9]. Один молодой господин ходил по одна улица, по имени сей улица: Крещиатик. Ему очень хотелось manger[10]. Он заходишь на Конюшню сесть на медведь и поехать в restaurant, где скажишь: garcon, une tasse de[11] рабинович и одна застегайчик avec[12] тарелошка с ухами…»
* * *
Я кончил.
Мой собеседник сидел, совсем раздавленный этой тяжелой историей.
Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:
— А что, ребятежь, нет ли у кого прикурить цигарки!
— Да, — ухмыльнулся мой собеседник. — Трудно вам уехать из русского города!
Маленькая грязная комнатка, с гримасой бешенства сдаваемая маленькой грязной гречанкой одному моему безработному знакомому.
Он слишком горд, чтобы признать отчаянное положение своих дел, но, зайдя к нему сегодня, я сразу увидел все признаки: вымытую собственными руками рубашку, сушившуюся на портрете Венизелоса, тарелку, на которой лежал огрызок ужасающей жареной печёнки с обломком семита, — отложенные в качестве ужина, грязная, закопченная керосинка с какой-то застывшей размазней в кастрюле.