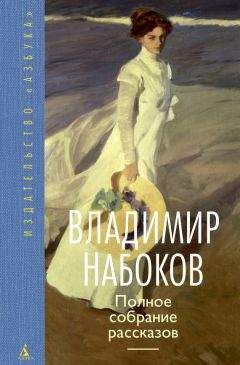Внутри все было столь же разношерстно, как и снаружи. Сразу за большими сенями, где громадных размеров камин напоминал о гостиничных временах, шли четыре просторные комнаты. Перила лестницы и по крайней мере одна из балясин относились к 1720-му году, так как были перенесены сюда при постройке особняка из гораздо более старого здания, даже местонахождения которого теперь никто в точности не знал. Весьма древним был также буфет в столовой, с чудесными изображениями дичи и рыб, инкрустированными на его филенках. В полудюжине комнат на каждом из верхних этажей и в обеих пристройках позади можно было обнаружить среди разрозненных предметов обстановки какое-нибудь очаровательное бюро атласного дерева или романтический палисандровый диван, но вместе с тем и всевозможные громоздкие и убогие вещи, сломанные стулья, пыльные столы с мраморной крышкой, угрюмые этажерки с потемневшими зеркальцами в глубине, печальными, как глаза старых мартышек. Симпатичная спальня, отведенная Пнину, была на верхнем этаже и выходила на юго-восток: там были полувытертые золотистые обои на стенах, походная койка, незатейливый умывальник и всякого рода полки, бра и лепные завитушки. Пнин подергал и поднял оконную раму, улыбнулся улыбающемуся лесу, вспомнил опять далекий первый день в деревне и вскоре сошел вниз в своем новом темно-синем купальном халате и в простых резиновых кенгах на босу ногу – разумная предосторожность, ежели собираешься идти по сырой и может быть кишащей змеями траве. На садовой террасе он встретил Шато.
Константин Иваныч Шато, тонкий и обаятельный ученый с чисто русской родословной, несмотря на фамилью (происходящую, как мне говорили, от фамильи одного обрусевшего француза, который усыновил осиротевшего Ивана), преподавал в большом нью-йоркском университете и не видался со своим другом Пниным вот уже пять лет. Они обнялись с радостным, теплым урчанием. Признаюсь, одно время я сам был под обаянием ангельски кроткого Константина Иваныча, а именно в ту пору, когда мы зимой 1935-го или 1936-го года ежедневно встречались для утренней прогулки под лаврами и каркасными деревцами в Грассе, на юге Франции, где он тогда жил на одной вилле с несколькими другими выходцами из России. Его мягкий голос, аристократическая петербургская картавость, кроткие, грустные оленьи глаза, русая эспаньолка, которую он безпрестанно теребил, разбирая ее своими длинными изящными пальцами, – все в Шато (пользуясь литературным оборотом, столь же старомодным, как и он сам) вызывало в его друзьях редкостное ощущение благополучия. Они поговорили немного, обмениваясь впечатлениями. Как нередко бывает между эмигрантами с твердыми убеждениями, всякий раз, когда они встречались после разлуки, они не просто наверстывали прошедшее с последней встречи время, но старались высказать – посредством нескольких кратких, как пароль, слов, намеков, интонаций, непередаваемых на чужом языке, – свое отношение к последним событиям русской истории, к тридцати пяти годам безнадежной неправды, последовавшим за столетием пробивавшей себе дорогу справедливости и светивших вдали надежд. Затем они перешли на обычную профессиональную тему европейских преподавателей за границей, вздыхая и качая головами по поводу «типичных американских студентов», которые не знают географии, нечувствительны к шуму и смотрят на образование только как на средство получения в будущем доходного места. Потом они расспросили друг друга, как подвигается работа, причем каждый говорил о своих изысканиях крайне скромно и сдержанно. Наконец, когда они шли, задевая мимоходом стебли золотарника, луговой тропинкой к лесу, где протекала каменистая речка, они заговорили о своем здоровье: Шато, казавшийся таким безпечным, державший одну руку в кармане белых фланелевых панталон, во фланелевом жилете под щегольски распахнутым люстриновым пиджаком, весело сообщил, что в недалеком будущем ему предстоит хирургическое исследование брюшной полости, а Пнин со смехом сказал, что всякий раз, что он подвергается рентгеноскопии, врачи тщетно пытаются разгадать причину того, что они называют «тенью за сердцем».
– Хорошее заглавие для скверного романа, – заметил Шато.
Когда они проходили мимо заросшего травой пригорка, сразу за которым начинался лес, к ним с отлогого склона спустился большими шагами розоволицый, почтенного вида господин в легком полосатом костюме, с копной седых волос и толстым лиловым носом, похожим на громадную малинину, с досадливо искаженным лицом.
– Я принужден вернуться за шляпой, – драматически воскликнул он, приблизившись.
– Вы знакомы? – пробормотал Шато, жестами представляя их друг другу. – Тимофей Павлыч Пнин, Иван Ильич Граминеев.
– Мое почтение, – сказали оба, поклонившись друг другу над крепким рукопожатьем.
– Я полагал, – продолжал Граминеев, любивший в разговоре обстоятельность, – что день будет таким же пасмурным, как начался. По глупости я вышел с непокрытой головой. А теперь солнце печет мне мозги. Должен вот прервать работу.
Он указал на вершину пригорка. Там, изящно выделяясь на фоне синего неба, стоял его мольберт. С этого гребня он писал открывавшийся по ту сторону вид на долину с романтической старой ригой, корявой яблоней и коровами.
– Могу предложить вам свою панаму, – сказал добрый Шато, но Пнин уже достал из кармана халата большой красный носовой платок и ловко завязал узлами его концы.
– Чудесно… премного благодарен, – сказал Граминеев, прилаживая этот головной убор.
– Постойте, – сказал Пнин. – Нужно подоткнуть узлы.
Покончив с этим, Граминеев пошел наизволок к своему мольберту. Это был известный живописец откровенно академической школы, чьи задушевные полотна – «Волга-матушка», «Трое верных друзей» (мальчик, лошадь и собака), «Апрельская прогалина» и другие в том же роде – все еще красовались в одном московском музее.
– Мне кто-то говорил, – сказал Шато, меж тем как они с Пниным продолжали идти к реке, – что у Лизиного сына необычайные способности к живописи. Это правда?
– Да, – отвечал Пнин. – Тем более обидно, что его мать, которая, кажется, собралась в третий раз замуж, внезапно увезла Виктора до конца лета в Калифорнию, между тем, как если бы он поехал со мной сюда, как предполагалось, у него была бы положительно превосходная возможность позаняться с Граминеевым.
– Я бы сказал сравнительно превосходная, – мягко возразил Шато.
Они вышли к пенящейся, сверкающей речке. Впадина в скале между малюсенькими верхним и нижним водопадами образовала естественный купальный бассейн под ольхами и соснами. Шато, который не купался, удобно устроился на валуне. В продолжение всего академического года Пнин регулярно подставлял свое тело под лучи солнечной лампы; поэтому, раздевшись до купальных трусиков, он зардел густым отливом красного дерева, испещренным солнцем и тенью прибрежной рощицы. Он снял крестик и кенги.
– Посмотрите, как красиво, – сказал наблюдательный Шато.
Десятка два маленьких бабочек, все одного вида, сидели на мокром песке, подняв и сложив крылья, бледные с испода, с темными точками и крошечными, с оранжевой каймой, павлиньими лунками по кромке заднего крыла; одна из скинутых Пниным галош спугнула нескольких из них, и, обнаружив небесную голубизну лицевой поверхности крыльев, они запорхали вокруг, как голубые снежинки, а потом опять сели.
– Жаль, нет здесь Владимира Владимировича, – заметил Шато. – Он бы нам рассказал об этих восхитительных насекомых.
– Мне всегда казалось, что его энтомология просто поза.
– Ах, нет, – сказал Шато. – Вы так когда-нибудь потеряете его, – добавил он, указывая на крестик на золотой цепочке, который Пнин, сняв с шеи, повесил на ветку. Его блеск озадачил реявшую стрекозу.
– Может быть, я и не прочь потерять его, – сказал Пнин. – Как вам хорошо известно, я ношу его исключительно из сантиментальности. И сантиментальность эта становится обременительной. В конце концов, в этом стремлении удержать у грудной клетки частицу своего детства слишком уж много физического.
– Не вы первый сводите религиозное чувство к осязанию, – сказал Шато, который, будучи человеком церковным, не одобрял агностицизма своего друга.
Слепень, слепой дуралей, приложился к лысой голове Пнина и был тотчас оглушительно прихлопнут его мясистой ладонью.
С валуна поменьше того, на котором примостился Шато, Пнин осторожно ступил в коричневую и синюю воду. Он заметил у себя на руке часы – снял их и положил в одну из галош. Медленно поводя загорелыми плечами, Пнин брел вперед, и по его широкой спине сбегали, трепетали петлистые лиственные тени. Он остановился и, разбивая блеск и тень вокруг себя, смочил наклоненную голову, потер мокрыми руками затылок, сполоснул по очереди подмышки и, сложив ладони, скользнул в воду, рассекая ее своим величественным брассом, отчего по обе стороны от него побежала зыбь. Пнин торжественно плыл кругом этого естественного водоема. Он плыл с равномерным отфыркиваньем, булькая и отдуваясь. Равномерно разводил ноги и выбрасывал их в коленях и одновременно сгибал и распрямлял руки, наподобие гигантской лягушки. Поплавав таким образом минуты две, он вылез из воды и присел на камень обсушиться. Потом надел крестик, часы, кенги и халат.