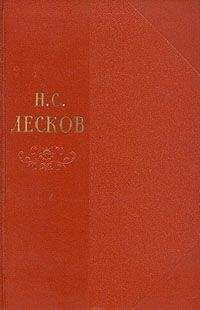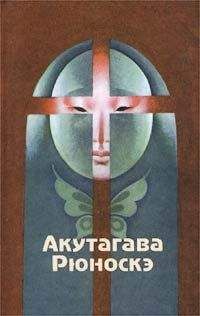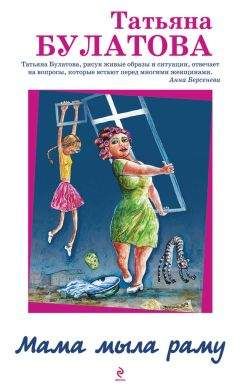— Райнер, — мы с ним прощались, — отвечал Вязмитинов. — Очень хороший человек.
— Кто? Райнер?
— Да.
— Кажется. Что ему здесь нужно? Какие у него занятия?
— Он путешествует.
— А! Это у нас новость? Куда ж он едет?
— Так едет, с своим приятелем и с Помадой. А что?
— Ничего. Он в самом деле очень образованный и очень милый человек.
— И милый? — с полушутливой, полуедкой улыбкой переспросил Вязмитинов.
— И милый, — еще раз подтвердила Женни, закрасневшись и несколько поспешливо сложив свои губки.
Глава девятнадцатая Крещенский вечер
На дворе рано осмерк* самый сердитый зимний день и немилосердно била сухая пурга. В двух шагах человека уже не было видно. Даже красный свет лучин, запылавших в крестьянских хатах, можно было заметить, когда совсем уж ткнешься носом в занесенную снегом суволоку, из которой бельмисто смотрит обледенелое оконце. На господском дворе камергерши Меревой с самого начала сумерек люди сбивались с дороги: вместо парадного крыльца дома попадали в садовую калитку; идучи в мастерскую, заходили в конюшню; отправляясь к управительнице, попадали в избу скотницы. Такая пурга была, что свету божьего не видно. А между тем не держала эта пурга по своим углам меревскую дворню. Люди, вырядившись шутами, ходили толпою из флигеля во флигель, пили водочку, где таковая обреталась, плясали, шумели, веселились. Особенно потешал всех поваренок Ефимка, привязавший себе льняную бороду и устроивший из подушек аршинный горб, по которому его во всю мочь принимались колотить горничные девушки, как только он, по праву святочных обычаев, запускал свои руки за пазуху то турчанке, то цыганке, то богине в венце, вырезанном из старого штофного кокошника барышниной кормилицы. Словом, на меревском дворе были настоящие святки. Даже бахаревский садовник и птичница пришли сюда, несмотря на пургу, и тоже переходили за ряжеными из кухни в людскую, из людской в контору и так далее.
— А у нас-то теперь, — говорила бахаревская птичница, — у нас скука пристрашенная… Прямо сказать, настоящая Сибирь, как есть Сибирь. Мы словно как в гробу живем. Окна в доме заперты, сугробов нанесло, что и не вылезешь: живем старые да кволые. Все-то наши в городе, и таково-то нам часом бывает скучно-скучно, а тут как еще псы-то ночью завоют, так инда даже будто как и жутко станет.
Между тем как переряженные дворовые слонялись по меревскому двору, а серые облачные столбы сухого снега, вздымаясь, гуляли по полям и дорогам, сквозь померзлое окно в комнате Юстина Помады постоянно мелькала взад и вперед одна и та же темная фигура. Эта фигура был сам Помада. Он ходил из угла в угол по своему чулану и то ворошил свою шевелюру, то нюхал зеленую веточку ели или мотал ею у себя под носом. На столе у него горела сальная свечка, распространяя вокруг себя не столько света, сколько зловония; на лежанке чуть-чуть пищал угасавший самовар, и тут же стоял графин с водкой и большая деревянная чашка соленых и несколько промерзлых огурцов.
— Во-первых, истинная любовь скромна и стыдлива, а во-вторых, любовь не может быть без уважения, — произнес Помада, не прекращая своей прогулки.
— Рассказывай, — возразил голос с кровати.
Теперь только, когда этот голос изобличил присутствие в комнате Помады еще одного живого существа, можно было рассмотреть, что на постеле Помады, преспокойно растянувшись, лежал человек в дубленом коротком полушубке и, закинув ногу на ногу, преспокойно курил довольно гадкую сигару.
Всматриваясь в эту фигуру, вы узнавали в нем доктора Розанова. Он сегодня ехал со следствия, завернул к Помаде, а тут поднялась кура*, и он остался у него до утра.
— Это верно, — говорил Помада, как бы еще раз обдумав высказанное положение и убедившись в его совершенной непогрешимости.
— Как не верно! — иронически заметил доктор.
— Белинский пишет, что любовь тогда чувство почтенное, когда предмет этой любви достоин уважения.
— Из чего и следует, что и Белинский мог провираться.
— Ну, у тебя все провираются.
— А все!
— Ну, можно ли любить женщину, которую ты не уважаешь, которой не веришь?
— Не о чем и спрашивать. Стало быть можно, когда люди любят.
— Люди черти, люди и водку любят.
— Дура ты, Помада, право, дура, и дураком-то тебя назвать грех.
Доктор замолк.
— Терпеть я тебя не могу за эту дрянную манеру. Какого ты черта все идеальничаешь?
— Оставь уж лучше, чем ругаться, — заметил, обидясь, Помада.
— Нет, в самом деле?
— А в самом деле, оставим этот разговор, да и только.
— И это можно, но ты мне только скажи вот: ты с уважением любишь или нет?
— Я никого не люблю исключительной любовью.
— Что врать! Сам сто раз сознавался, то в Катеньку, то в Машеньку, то в Сашеньку, а уж вечно врезавшись… То есть ведь такой козел сладострастный, что и вообразить невозможно. Вспыхнет как порох от каждого женского платья, и пошел идеализировать. А корень всех этих привязанностей совсем сидит не в уважении.
— А в чем же, по-твоему?
— Ну уж, брат, не в уважении.
— По-твоему, небось, черт знает в чем… в твоих грязных наклонностях.
— Те-те-те! ты, брат, о грязных-то наклонностях не фордыбачь. Против природы не пойдешь, а пойдешь, так дураком и выйдешь. Да твое-то дело для меня объясняется вовсе не одними этими, как ты говоришь, грязными побуждениями. Я даже думаю, что ты, пожалуй, — черт тебя знает, — ты, может быть, и действительно способен любить так, как люди не любят. Но все ты любишь-то не за то, что уважаешь. Ты прежде вот, я говорю, врежешься, а потом и пошел додумывать своей богине всякие неземные и земные добродетели. Ну, не так что ли?
— Конечно, не так.
— Как же это ты и Зину Бахареву уважаешь, и Соньку, и Лизу, и поповну молодую, и Гловацкую?
— Эко напутал!
— Чего? да разве ты не во всех в них влюблен? Как есть во всех. Такой уж ты, брат, сердечкин, и я тебя не осуждаю. Тебе хочется любить, ты вот распяться бы хотел за женщину, а никак это у тебя не выходит. Никто ни твоей любви, ни твоих жертв не принимает, вот ты и ищешь все своих идеалов. Какое тут, черт, уважение. Разве, уважая Лизу Бахареву, можно уважать Зинку, или, уважая поповну, рядом с ней можно уважать Гловацкую?
— Да к чему ж ты их всех путаешь?
— Власть, братец мой, такую имею, и ничем ты мне этого возбранить не можешь, потому что рыльце у тебя в пуху.
Доктор встал с постели, набил себе дорожную трубку, потом выпил рюмку водки и, перекусив огурец, снова повалился на постель.
— Все это, братец мой, Юстин Феликсович, я предпринимаю в видах ближайшего достижения твоего благополучия, — произнес он, раскуривая трубку.
— Благодарю покорно, — процедил сквозь зубы Помада, не прекращая своей бесконечной прогулки.
— И должен благодарить, потому что эта идеальность тебя до добра не доведет. Так вот и просидишь всю жизнь на меревском дворе, мечтая о любви и самоотвержении, которых на твое горе здесь принять-то некому.
— Ну и просижу, — спокойно отвечал Помада.
— Просидишь? — Ну и сиди, прей.
Помада молча
— Отличная жизнь, — продолжал иронически доктор, — и преполезная тоже! Летом около барышень цветочки нюхает, а зиму, в ожидании этого летнего блаженства, бегает по своему чулану, как полевой волк в клетке зверинца. Ты мне верь; я тебе ведь без всяких шуток говорю, что ты дуреть стал: ты таки и одуреешь.
— Какой был, таков и есть, — опять процедил Помада, видимо тяготясь этим разговором и всячески желая его окончить.
— Нет, не таков. Ты еще осенью был человеком, подававшим надежды проснуться, а теперь, как Бахаревы уехали, ты совсем — шут тебя знает, на что ты похож — бестолков совсем, милый мой, становишься. Я думал, что Лизавета Егоровна тебя повернет своей живостью, а ты, верно, только и способен миндальничать.
Помада продолжал помахивать у своего носа еловою веточкой и молчал, выдерживая свое достоинство.
Доктор встал, выпил еще рюмку водки и стал раздеваться.
— У человека факты живые перед глазами, а он уж и их не видит, — говорил Розанов, снимая с себя сапоги. — Стану я факты отрицать, не выживши из ума! Просто одуреваешь ты, Помада, просто одуреваешь.
— Это ты отрицатель-то, а не я. Я все признаю, я многое признаю, чего ты не хочешь допустить.
— Например, любовь, происходящую из уважения? — смеясь, спросил доктор.
— Да что тебе далось нынче это уважение! — воскликнул Помада несколько горячее обыкновенного.
— Сердишься! ну, значит, ты неправ. А ты не сердись-ка, ты дай вот я с тебя показание сниму и сейчас докажу тебе, что ты неправ. Хочешь ли и можешь ли отвечать?
— Да я не знаю, о чем ты хочешь спрашивать.
— Повар Павел любит свою жену или нет?