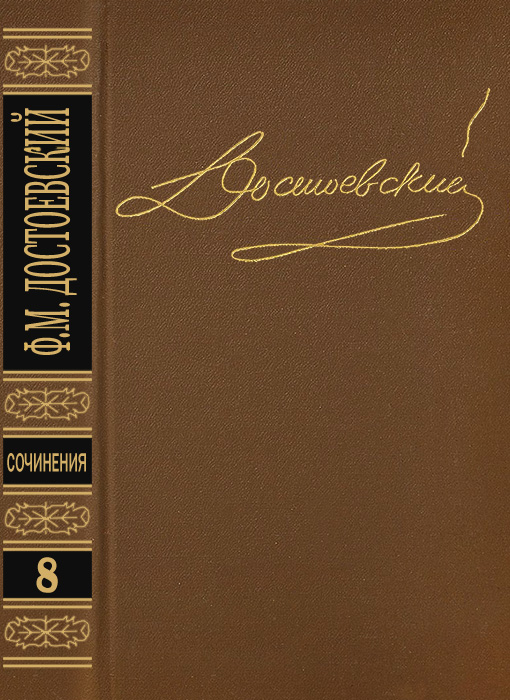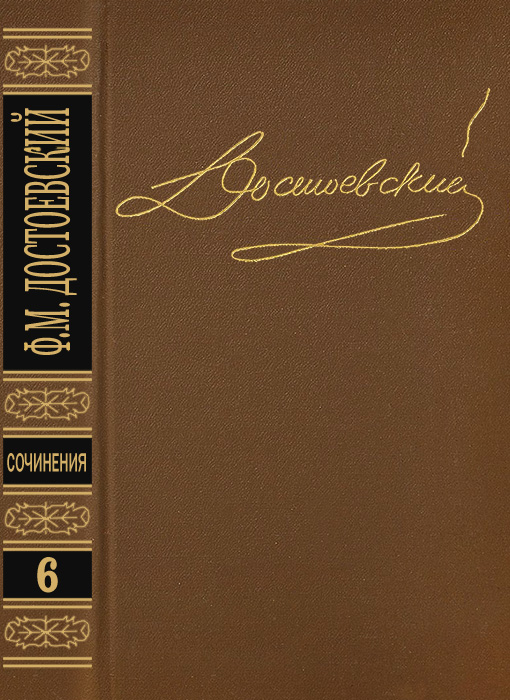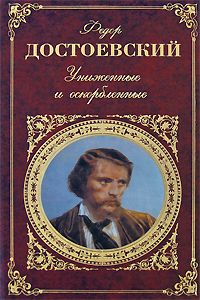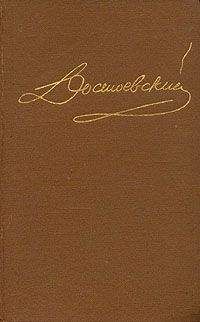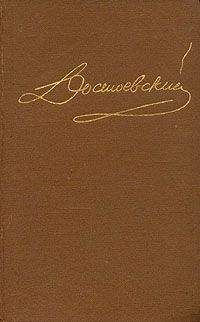Павлович поднял с усилием свою дрожавшую правую руку, чтоб перекреститься; крест, однако ж, не сложился, и дрожавшая рука опустилась. Немного погодя он медленно привстал с тумбы, схватился за свою даму и, опираясь на нее, пошел своей дорогой далее, как бы в забытьи, — точно и не было тут Вельчанинова. Но тот ухватил его опять за плечо.
— Понимаешь ли ты, пьяный изверг, что без тебя ее и похоронить нельзя будет! — прокричал он задыхаясь.
Тот повернул к нему голову.
— Артиллерии… прапорщика… помните? — промямлил он тупо ворочавшимся языком.
— Что-о-о? — завопил Вельчанинов, болезненно вздрогнув.
— Вот тебе и отец! Ищи его… хоронить…
— Лжешь! — закричал Вельчанинов как потерянный. — Ты со злости… я так и знал, что ты это мне приготовишь!
Не помня себя, он занес свой страшный кулак над головою Павла Павловича. Еще мгновение — и он, может быть, убил бы его одним ударом; дамы взвизгнули и отлетели прочь, но Павел Павлович не смигнул даже глазом. Какое-то исступление самой зверской злобы исказило ему всё лицо.
— А знаешь ты, — произнес он гораздо тверже, почти как не пьяный, — нашу русскую……..? (И он проговорил невозможное в печати ругательство). Ну так и убирайся к ней! — Затем с силою рванулся из рук Вельчанинова оступился, и чуть не упал. Дамы подхватили его и в этот раз уже побежали, визжа и почти волоча Павла Павловича за собою. Вельчанинов не преследовал.
Назавтра, в час пополудни, на дачу Погорельцевых явился один весьма приличный чиновник средних лет, в вицмундире и вежливо вручил Клавдии Петровне адресованный на ее имя пакет от имени Павла Павловича Трусоцкого. В пакете заключалось письмо со вложением трехсот рублей и с необходимыми свидетельствами о Лизе. Павел Павлович писал коротко, чрезвычайно почтительно и весьма прилично. Он весьма благодарил ее превосходительство Клавдию Петровну за ее добродетельное участие к сироте, за которое может ей воздать только один бог. Неясно упоминал, что крайнее нездоровье не позволит ему явиться лично похоронить нежно им любимую и несчастную дочь, и возлагал в этом все надежды на ангельскую доброту души ее превосходительства. Триста же рублей назначались, как разъяснил он далее в письме, — на похороны и вообще на расходы, причиненные болезнию. Если же бы и осталось что из этой суммы, то покорнейше и почтительнейше просит употребить их на вечное поминовение за упокой души усопшей Лизы. Чиновник, доставивший письмо, не мог ничего более объяснить; даже оказалось из некоторых его слов, что он только по усиленной просьбе Павла Павловича взялся доставить лично пакет ее превосходительству. Погорельцев почти обиделся выражением «о расходах, причиненных болезнию», и определил, оставив пятьдесят рублей на погребение, — так как нельзя же было воспретить отцу хоронить свое дитя, — остальные двести пятьдесят рублей возвратить немедленно господину Трусоцкому. Клавдия Петровна решила окончательно возвратить не двести пятьдесят рублей, а расписку из кладбищенской Церкви в получении этих денег на вечное поминовение души усопшей отроковицы Елизаветы. Расписка была выдана потом Вельчанинову для вручения немедленно; он отослал ее по почте в номер.
После похорон он исчез с дачи. Целые две недели слонялся он по городу, безо всякой цели, один, и натыкался на людей в задумчивости. Иногда же по целым дням лежал, протянувшись у себя на диване, забывая о самых обыкновенных вещах. Погорельцевы много раз присылали звать его к себе; он обещал и тотчас же забывал. Клавдия Петровна даже приезжала к нему сама, но не заставала его дома. То же случилось и с его адвокатом; а между тем адвокату было что сообщить: тяжебное дело было им весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую с вознаграждением весьма незначительной долею оспариваемого ими наследства. Оставалось получить только согласие самого Вельчанинова. Застав его наконец у себя, адвокат был удивлен чрезвычайною вялостью и равнодушием, с которыми он, еще недавно такой беспокойный клиент, его выслушал.
Настали самые жаркие июльские дни, но Вельчанинов забывал самое время. Его горе наболело в его душе, как созревший нарыв, и выяснялось ему поминутно в мучительно-сознательной мысли. Главное страдание его состояло в том, что Лиза не успела узнать его и умерла, не зная, как он мучительно любил ее! Вся цель его жизни, мелькнувшая перед ним в таком радостном свете, вдруг померкла в вечной тьме. Эта цель состояла бы именно в том, — поминутно думал он об этом теперь, — чтобы Лиза каждый день, каждый час и всю жизнь беспрерывно ощущала его любовь на себе. «Выше нет никакой цели ни у кого из людей и не может быть! — задумывался он иногда в мрачном восторге. — Если и есть другие цели, то ни одна из них не может быть святее этой!» «Любовью Лизы, — мечтал он, — очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрадная и бесполезная жизнь; взамен меня, праздного, порочного и отжившего, — я взлелеял бы для жизни чистое и прекрасное существо, и за это существо всё было бы мне прощено, и всё бы я сам простил себе».
Все эти сознательные мысли представлялись ему всегда нераздельно с ярким, всегда близким и всегда поражавшим его душу воспоминанием об умершем ребенке. Он воссоздавал себе ее бледное личико, припоминал каждое выражение его; он вспоминал ее и в гробу, в цветах, и прежде бесчувственную, в жару, с открытыми и неподвижными глазами. Он вспомнил вдруг, что, когда она лежала уже на столе, он заметил у ней один бог знает от чего почерневший в болезни пальчик; это так его поразило тогда, и так жалко ему стало этот бедный пальчик, что тут и вошло ему тогда в голову, в первый раз, отыскать сейчас же и убить Павла Павловича, — до того же времени он «был как бесчувственный». Гордость ли оскорбленная замучила это детское сердечко, три ли месяца страданий от отца, переменившего вдруг любовь на ненависть и оскорбившего ее позорным словом, смеявшегося над ее испугом и выбросившего ее, наконец, к чужим людям? Всё это он представлял себе беспрерывно и варьировал на тысячу ладов. «Знаете ли, что такое была для меня Лиза?» — припомнил он вдруг восклицание пьяного Трусоцкого и чувствовал, что это восклицание было уже не кривлянье, а правда и что тут была любовь. «Как же мог быть так жесток этот изверг к ребенку, которого так любил, и вероятно ли это?» Но каждый раз он поскорее бросал этот вопрос и как бы отмахивался от него; что-то ужасное было в этом вопросе, что-то невыносимое для него и — нерешенное.
В один день, и почти сам не помня