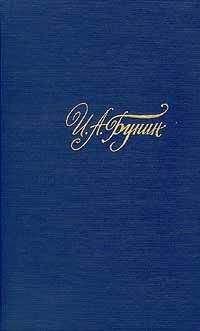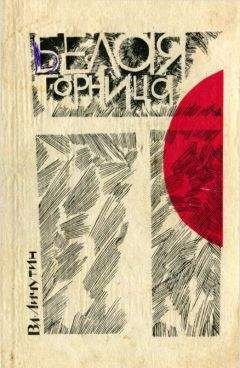- А у Ли, - спросила Генрих, - груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.
- Да.
- Она глупа?
- Нет... Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой... Но ты мне надоела с Ли.
- Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.
- И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию...
- А почему не в Ниццу?
- Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное - поедем вместе!
- Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.
- Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. "Я люблю во Флоренции только треченто..." А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто... И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке... Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов... Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы... словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мертвый ангел... А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощекие, в черных корсажах, в красных шерстяных чулках...
- Ох, уж мне эти поэты! - сказала она с ласковым зевком. - И опять девки, девки... Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю...
В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.
На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало, - вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей, - и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.
- Генрих, что ты? - сказал он.
- Не знаю, милый, - ответила она тихо. - Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя... Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца... А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки...
- Да, да, и пронзительные цимбалы... Вот я и говорю: пошли австрияка к черту и поедем дальше.
- Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения - ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими...
- Слушай, правда?
Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.
- Генрих, я не узнаю тебя.
- И я себя. Но иди, иди ко мне.
- Погоди...
- Нет, нет, сию минуту!
- Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?
- Нынче вечером, нынче же вечером!
Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников.
И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино "Феслау" на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восстававших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящий огонь при входе в закопченную пасть туннеля. Потом - все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушиная гордость и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале - одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня - вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах...
В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой ранней молодости не испытывал ничего подобного! Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с эстрады струнный оркестр - телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме: "Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками!"
Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденький лакеи во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: "Pas de lettres, monsieur, pas de telegrammes"16. Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал:
"Ну и черт с ней. Все понятно".
Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике - ехал чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи! и крутой выстрел бича в воздухе... Портье радостно осклабился:
- Pas de telegrammes, monsieur!
Он тупо одевался к обеду, думая все одно и то же.
"Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свете так не любил, как ее, что Бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю, - возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, какое это было бы упоение - дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе!"