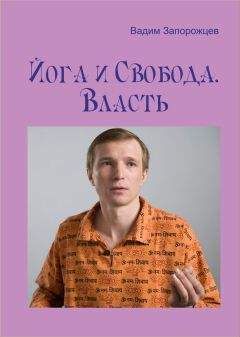Я уверенно вошел в полосу счастья!
Недостатка не было ни в чем: ни со стороны сердца, ни в смысле матерьяльном. А так как занят я был свыше всякой меры, то часы свободы были особенно драгоценными. Когда, я, предварительно тихонько позвонив, открывал дверь ключом и проникал в переднюю, где Мари меня уже ждала, и видел как поблескивают из под ресниц ее глаза, то о сутолоке, только что мной покинутой, я забывал мгновенно. Мари раскидывала руки, смеялась и говорила:
- Я выпускаю минуты! Видишь сколько их! Они все наши. Поднимая голову, она точно следила за их полетом и, с деланной строгостью, спрашивала:
- Ты хорошо запер дверь? Дела наверно за порогом? Эти встречи стали чем-то похожим на наш собственный, постоянно возобновлявшийся ритуал. Был он так насыщен, что порой нам казалось: не привезли ли мы с собой из зачарованного города какой-то магический заряд?
Через несколько месяцев Мари мне сказала, что ждет ребенка. До этого, иной раз в бюро, меня охватывали сомнения: вечно {91} погруженный в дела я был вынужден оставлять Мари подолгу в одиночестве. Я чувствовал какую-то свою вину и как бы упрекал себя в том, что она, - всегда одна, - "копит для меня минуты". Теперь я знал, что она больше не одна, что она прислушивается к новой, в ней возникшей, жизни...
Все, все, все тогда у меня было, чего можно пожелать: и взаимная любовь, и легко сочетавшиеся характеры, и здоровье, и ожидание ребенка, и средства, и удачное устранение, возникшей было со стороны Аллота, угрозы... Конечно, краски счастья менялись, но всегда к лучшему.
Однажды, когда мы обсуждали как назовем ребенка (касалось это только дочери, так как сына, - если бы родился сын, - Мари безапелляционно решила назвать моим именем), я сказал, что Мари-Анжель-Женевьев звучит очень хорошо.
- Нет, нет. Без Анжель, - возразила Мари, - во всяком случае, без Анжель!
Помолчав, она стремительно прошла в спальню, где, минутой позже, я нашел ее в слезах.
- Это ничего, это ничего, - шептала она, - прости меня.
Это от моего состояния. Я приму пилюлю.
- Ну, конечно, милая, конечно, дорогая, если ты не хочешь Анжель, то не надо Анжель.
Вдруг разрыдавшись, она продолжала:
- Мне страшно, что кто-нибудь когда-нибудь ее назовет мадам Анжель! Мадам Анжель! Моя дочка будет мадам Анжель, как была я...
Я уложил ее в постель и провел с ней почти час ; и мы, совместно, решили назвать дочь Мари-Женевьев, опустив Анжель...
Рождение девочки еще упрочило наше счастье. Мари-Женевьев оказалась похожей на мать, что меня очень обрадовало. Ребенок был и здоровый, и спокойный. Минуты, которые Мари для меня собирала, из одиночных стали двойными ! Позже - когда родилась наша вторая дочь - Доротея, - они стали тройными! В каждое мгновение вкладывал я все, что могло источить мое сердце, любви и к самой Мари, и к Мари-Женевьев, и к Доротее. Добавлю, что жизнь Мари стала до краев заполненной счастливыми заботами. Были у нее, разумеется, и нерс (так в оригинале) и всякие другие помощницы. Но, думается мне, - отличная мать - Мари и без них со всём справилась бы ясно и весело.
Таким била горячим ключом моя жизнь, что лучшего, думаю я, нельзя себе вообразить. За пределами семьи был "внешний мир", с увлекавшей меня деятельностью. Дома - но, может быть надо сказать: за пределами "внешнего мира"? - были охапки времени, с которыми, все так же нежно, продолжала меня ждать Мари и которые мы, едва встретившись, начинали безудержно расточать. Дни, месяцы, годы текли ровно и сильно.
Так ровно и так сильно, что я готов был себя спросить, не таится ли в этой полноте опасность? Не окажется ли, что в силу некоего {92} потустороннего закона на слишком яркий свет непременно будет наброшена тень?
Но ничего такого не случалось.
Аллот оказался прекрасным коммерсантом, энергически заботился о притоке заказов, хорошо следил за их своевременным выполнением.
- Я говорил, я говорил. Доминус. - зачастил он, как-то заглянув в мое бюро, - что сотрудничество наше попросту напрашивалось. Хэ-ха! Помните, как все началось? Шоколадная плитка, требующая рубашки, и молодая портниха, готовая эту рубашку сшить. Два взаимно дополняющихся понятия, два притягивающихся, одно к другому, тела! Тела, тела! Как хорошо, когда тела одно к другому тянутся! Согласитесь, что для нашего брата, охотника за сюжетами, это в высшей степени заманчиво. Ведь из этих притяжений могут вытечь рождения. В нашем случае как раз так и получилось: родилось Ателье. А? Недурно сказано? И позже, Доминус, сможем, для вашего шоколада. не рубашки шить, а дома строить, - я хочу сказать поставлять вам для него красивые коробки. Для каждой плитки по особняку. И портниха обратится в строителя. А? Хэ-хэ.
Через несколько дней появилась Зоя. Она сослалась на то, что сделала набросок небольших рекламных плакатов. Едва она приступила к пояснениям, как мне стало ясно, что не в плакатах дело, и приготовился было выслушать жалобу на Аллота. Но Зоя ограничилась тем, что показала рисунки, как всегда превосходные. Пока я их рассматривал, она молчала и, не спуская с меня глаз, точно ждала что я скажу. Когда я плакаты одобрил, она низко опустила голову и стала теребить лежавшие у нее на коленях перчатки. Что она была взволнована, заметил бы всякий. На мой вопрос:
- Что с вами? - ответа не последовало. Встав, она собрала рисунки.
- Так что вам нравится? - спросила она.
- Ну да. Я уже сказал, что нравится.
- Надо сделать еще?
- Пока, я думаю, хватит и этих.
- Но я сделаю еще, если вам понравилось?
Я молчал.
- Мне приятно, что вам поправилось, - почти прошептала она и взглянув мне в глаза чуть настойчивей, чем следовало, направилась к выходу, по обыкновению своему, не попрощавшись. Я же смотрел на ее походку, на ее икры, на то, как покачивалась ее юбка.
Я знал, что она и Аллот живут в одной квартире, и иной раз думал, что отношения их совершенно интимны; только очень уж велика была разница в возрасте! Так что проще было полагать его за ее приемного отца и покровителя. А так как в мои намерения входило ограничить отношения с ними возможным минимумом, то я и находил себе род алиби: в конце концов все это меня не касается! Раз Аллот меня оставляет в покое, не лучше ли считать себя удовлетворенным?
{93} Но вот, года, кажется, через четыре после свадьбы, я проснулся не в обычном состоянии бодрости, не вскочил, как всегда, без промедления, с постели, а пролежал минуты две, а может быть и пять, в недоумении и беспокойстве. Рядом со мной Мари продолжала тихо дышать. Мне пришлось подавить в себе желание ее разбудить. Беспокойство перешло тогда в злобу, ни к чему, впрочем, не относившуюся: в злобу вообще. Я жевнул, ощутил во рту неприятный вкус, предположил, что дело в желудке и удивился, так как никакого излишества я себе никогда не позволял, и накануне от этого правила не отступил. Да и вообще неурядиц со здоровьем у меня не бывало. Выскользнув тихонько из постели я прошел в ванну и там проскрежетал несколько нечленораздельных звуков: немного, так сказать, порычал. Шум воды и распространившийся от нее пар обозлили меня окончательно. "Хам", - сказал я, и удивился своему голосу, который был хрипл и чуть что не казался чужим. Кто мог быть "хамом"? К кому я обратился? Ни неприятных встреч, ни деловых неудач, ни размолвок в предшествовавшие этому утру дни не произошло. Никакого повода для злобы никто мне не дал. Не найдя объяснения, я погрузился в воду. Слишком горячая, она, с некоторой, так сказать, бесцеремонностью, все расставила по местам.
Все пошло как раньше. Однако, воспоминание о моем восклицании, о том, что я обратился к какому-то "хаму" - который, хоть и невидимый и неведомый, был как будто в непосредственной ко мне близости, меня не покинуло. Не понимая какой склонности моего воображения условный этот "хам" мог соответствовать, я приписал все чрезмерности деловой нагрузки, что могло, конечно, быть поводом к некоторому нервному утомлению. На течении нашей жизни это не отразилось, Мари я ни о чем не рассказал. Если что-нибудь и начинало случаться, то было это, так сказать, параллельно ежедневному обиходу и ни в чем его не нарушало.
23.
Шли годы.
Почти к самому концу этого счастливого периода моей жизни - надо бы сказать: когда полнота счастья стала напоминанием о существовании горя, - я получил извещение от моего нотариуса, что жена управляющего моим южным владением преставилась, и что без нее вдовец там оставаться больше не хочет. К тому же он очень постарел и мучился ревматизмами. Нотариус просил распоряжений.
У меня мелькнула мысль проехаться на юг с Мари и двумя девочками: провести несколько дней в дороге, в автомобиле, с семьей, с нерс, с остановкой, двумя в гостиницах, было соблазнительно, а смена впечатлений была бы отдыхом. Кроме того, если бы Мари владение понравилось, можно было бы устроить там каникулы. Но пока {94} мы с ней обо всем этом советовались, пришла депеша, что дом сгорел! Точно бы сама судьба вмешалась в мои предположения. Не принял ли я, в самом деле, в первую мою поездку решения никогда Мари туда не привозить, - решения, вытекавшего из моего благочестивого желания не потревожить жившей в этих комнатах напрасной мечты о счастьи? И не улыбнулась ли мне с портрета молодая женщина тихо и доверчиво, точно зная, что я не захочу чтобы чужое веселье прошло там, где болезнь и смерть не дали ей радоваться и смеяться? В противоречии со всегдашней моей привычкой все мерить глазами делового человека, я установил тогда некую связь между тем, чтобы привезти в дом Мари и девочек, и пожаром. Больше того: я поделился этой мыслью с самой Мари, повторив ей рассказ о первой поездке, и добавив, что теперь нет ни дома, ни портрета... И тотчас же она сказала, что мне непременно надо туда съездить все лично устроить, что это будет лучшим средством устранения какого бы то ни было сомнения. И я поехал.