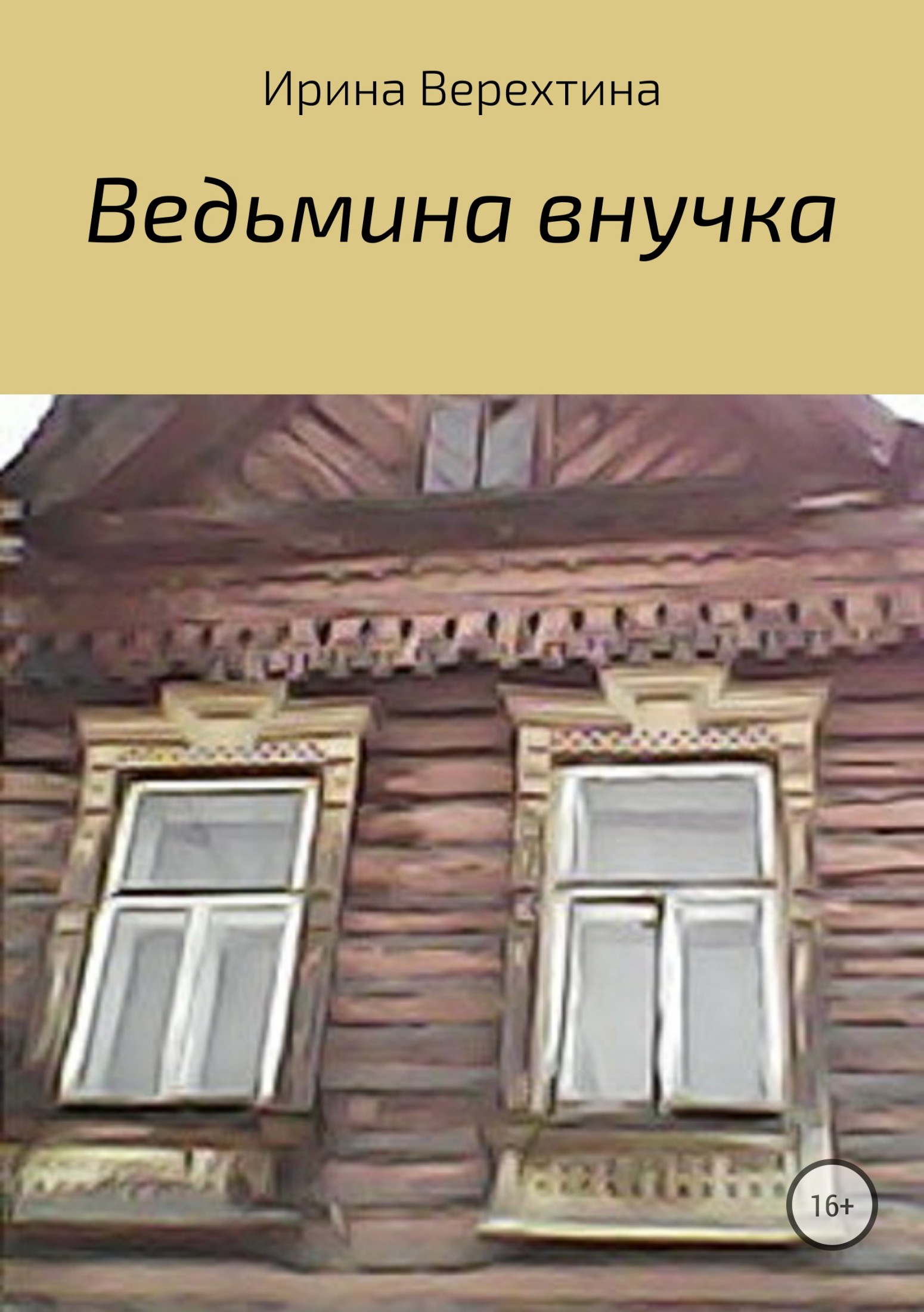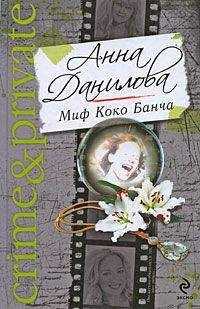не нужные слёзы. Пихнув мать локтем, чтобы замолчала, Танька села рядом с Ритой и обхватив её за плечи (отчего Рита заплакала ещё горше), забормотала материной дробной скороговоркой, которую никто в деревне не понимал, а Рита понимала, всё же дружили с детства с Танькой.
– Да ты чего, Рит? Ты ничего, не плачь, мы с тобой завтра встанем пораньше и с утречка на кладбище, я могилка знаю где, я покажу, и ты там всё своё сделаешь, чего тебе надо, а сейчас спать с тобой лягем, тёмно уже… Ты давай, умоешься и в комнате моей лягешь, а я с мамкой… Ты ж устала как, аж щёки ввалились, ехать-то далёконько, ты небось весь день не емши, не пимши… Тебе поспать надо, а плакать-то зачем? Я ж так рада, так рада, что ты приехала. Ты бы написала хоть… – бормотала Танька, увлекая за собой покорную и безвольную Риту.
После ледяного умывания слёзы отступили. Рита вытянулась на Танькиной тахте, чувствуя неимоверную усталость. Тахта широкая, они поместились бы здесь вдвоём, но Танька отчего-то упёрлась: «Нетушки, я с мамкой лягу. Ты спи давай. А то проболтаем с тобой всю ночь, утром мамка мне задаст. Спи!» – и испарилась из комнаты.
Рита удивилась. Раньше такого не бывало, раньше Танька ни за что бы не ушла, легла бы рядом, и они шептались бы обо всём… Танька была на их с Майрбеком свадьбе, и теперь ей до смерти хотелось расспросить подругу – как и что? Танька до сих пор была незамужней, а у Риты муж ингуш, и как она с ним живёт, он же горец дикий! Или не дикий уже, Ритка любого «на скаку остановит»…
Рита видела, как маялась Танька: при матери об этом не спросишь. Но – ни о чем не спросила, убежала, словно чего-то испугалась. Оставшись одна, Рита с удовольствием вытянулась на прохладных крахмально-хрустких простынях, пахнущих анисом и пижмой. Спать не хотелось. Она лежала и перебирала в памяти впечатления этого вечера. Впечатления были приятные. И пироги! Антонида пирогами её не баловала, а Ритина родная бабушка Поля пекла, но с этими не сравнить, эти настоящие! Завтра она правдами и неправдами выпросит рецепт и угостит мужа настоящими пирогами, он про чапильги свои не вспомнит. Достал уже с пирогами этими. Мать его избаловала, а мне расхлёбывать…
Пироги были потом… А сначала было – волшебство! Долгий скрип колодезного ворота, ледяная арбузная сладость воды, от которой сводило зубы и которую Рита пила прямо из ведра. Ей отчаянно хотелось пить, она весь день не пила и не ела, не хотела – из-за бабушки и из-за того, что её не позвали на похороны, и теперь она приехала как вор, крадом, тайком, чтоб не знал никто, что она с Антонидой увидится…
Рите ничего не хотелось, а теперь – захотелось, и она жадно глотала колодезную – бабушкину! – воду, обливаясь ею, захлёбываясь и радуясь тому, что она здесь, у бабушки, и завтра с ней повидается, посидит на могилке и поговорит, и им никто не помешает.
–Ты прям как телок, из ведра тянешь, пей уж всё ведро до конца, – хохотала Танька.
Жизнерадостно-звонкое бряканье железного стерженька умывальника, который будто разговаривал с Ритой: «Всё – бряк! Пройдёт! Жизнь, звяк! Бряк! Прой-дёт, прой-едет… Жизнь – она, бряк, и так тебя, и сяк! А ты всё – бряк! Звяк! Что, не так?»
Да он настоящий философ, старый мудрый умывальник! Всё знает – что было, что будет, чем сердце успокоится… Будет всё как у всех – бряк да звяк! – открылась вдруг удивлённой Рите немудрящая житейская истина.
…И тишина – глухая, всеобъемлющая, пуховым облаком накрывшая деревню. Тишина, не нарушаемая привычным гулом мчащихся по шоссе машин и возгласами загулявшей компании. Им всё равно, что уже ночь, в домах потушены огни, люди спят – завтра на работу, встать придётся рано…
– Аллё-оо, народ! Вы всё ещё не в белом, га-ха-ха, вы всё ещё не спите? Тогда мы идём к вам! А-ха-ха! Го-го-го!
Здешняя ночь ничем не напоминала московскую, она была иной: мудрой и всезнающей. И уютной, как ватное деревенское одеяло. Тишину хотелось слушать. Хотелось думать под неё – о чём-то важном, нужном, мудром – всё глубже погружаясь в эту дремотно-волшебную, целительную деревенскую тишину.
– Спи, спи, ссспиии, – нашёптывала тишина в Ритино ухо. Но Рите не спалось: никогда она не могла уснуть на новом месте, мучилась бессонницей, как бы ни хотела спать! Лежала, неотрывно глядя на лунный луч, протянувшийся к ней через всю комнату. Куда её приведёт лунная зыбкая дорожка? Может, прямо на Луну? А там – бабушка Поля, мама Ритиной мамы, и баба Тоня с ней! Вот они обрадуются… Да он сказочник, этот лунный луч, андерсеновский Оле Лукойе! Как было бы здорово, если бы…
Ещё вспоминались тёти Надины пироги – пышные, сдобно-сытные, тающие во рту. Пирогов было много, все с разными начинками, и Рита объелась. И теперь чувствовала, как пироги ворочаются у неё в животе, укладываясь поудобнее, и всё никак не улягутся. Нельзя столько есть! Нельзя наедаться на ночь. Рите было плохо, она ослабила бдительность, а Танька с тётей Надей нагло этим воспользовались и напихали в неё пирогов… Ох, никогда больше! А вкусные какие! Вроде улеглись пироги, успокоились. Она бы ещё кусочек съела…
На этом приятные воспоминания кончались и начинались – неприятные. Рита пыталась их прогнать, но они не уходили, назойливо теснились в голове и просили – их выслушать. Принять, так сказать, к сведению.
Усталость не помешала Рите разглядеть – это неприятное. Танька ей обрадовалась, но как-то странно на неё поглядывала и странно держалась с Ритой, хотя была ей рада, Рита это чувствовала. Всё-таки они подруги. А вот Танькина мать удивила: всегда привечала Риту, выделяла из всех Танькиных подруг (Танька все уши ей прожужжала: « А Рита… мы с Ритой… скорей бы приехала… да когда же она приедет?!) Да что там удивила, – ударила обухом по Ритиной бедной голове тётки Надина неискренняя улыбка, показная приветливость, фальшивая доброжелательность.
Тётка Надя радовалась, хлопотала, угощала… А взгляд тяжёлый, тревожный, оценивающий, словно Рита пришла к ним впервые. – «Кто ты? C чем пришла в наш дом?» – вопрошали глаза. Да и сама тётка Надя, хлопнув рюмку-другую привезённой Ритой «Старки» (за встречу, да со свиданьицем, да за помин