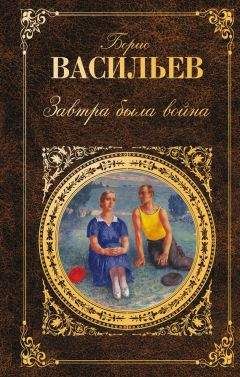Ознакомительная версия.
Когда закончился налет, мы вшестером, поддерживая с двух сторон, вывели лошадь и уложили на старую попону. Командир эскадрона – злой казачий капитан, послав немцев замысловато и многоэтажно, протянул наган, а я замахал руками: «Нет!..»
– Живодер ты, а не казак! – заорал капитан. – Немедля пристрели кобылу! Милосердие другу окажи, мать твою…
В те времена – как это странно писать, а ведь это так и есть! – так вот, в те давно прошедшие времена любая животина была необходима человеку как помощник в нелегкой борьбе за существование. Помощниками были лошади и коровы, овцы и козы, собаки и даже кошки, ибо в домах копошилось множество мышей, перед которыми женщины всего мира испытывают мистический ужас. Содержание животного для развлечения расценивалось резко неодобрительно, и по завышенным меркам тогдашней нравственности это было справедливо: в стране не хватало еды, и дети зачастую голодали страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добреньким, но требовательным, как к себе самому. И не было того массового умилительного восторга перед, скажем, собакой, положение которой резко ухудшилось, несмотря на все внешние признаки обратного. Ухудшилось потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.
Я начал рассказ о ломовых извозчиках, потому что в детстве не существовало большего удовольствия, чем катание. Правда, почему-то только зимой: сани мягко скользили по укатанному снегу, морозный ветер холодил лицо, радостно фыркала лошадь, и жизнь и ощущалась и в самом деле была праздником. С середины марта снизу, с Днепра, шли бесконечные обозы: везли укрытые рогожами ледяные глыбы, выпиленные из речного льда. Их доставляли на городские холодильники, льда требовалось много, смоленские горы были круты, и битюги, оскользаясь, волокли нагруженные платформы в гору, а вниз шли порожняком. И вот тут-то и следовало догнать сани и вскочить на ходу, но непременно спиной, чтобы кнут пришелся бы по пальтишку. Кнуты посвистывали, но куда чаще мы катили вниз в полном согласии с хозяином. Обратно, в гору, прицепиться было сложнее, но и тогда находился кто-либо, понимавший мальчишескую страсть. Кроме ломовых существовали и легковые пролетки, и санки, и крестьянские розвальни, и лесовозные роспуски, но ломовик был более массовым и более демократичным, и мы предпочитали его.
А автомашин было мало. Мы знали их наперечет, но я особо следил за желтой легковой, которая гонялась за мной довольно долго. Не знаю, кому она принадлежала, потому что мне тогда везло и я вовремя уносил ноги. А преследовала она меня из-за того, что я однажды кинул палку ей под колеса: интересно же, как палка сломается, правда? Вот я и кинул, но не рассчитал, и палка треснула шофера по голове, поскольку машина была открытой. Он невероятно оскорбился и долго пытался мне отомстить, но, повторяю, я замечал его первым. А вскоре произошло совершенно невероятное событие.
В самом начале тридцатых годов штаб, в котором служил отец, начал менять автопарк, списав в утиль старые машины. Но отец предложил не выбрасывать это старье, а отремонтировать и на его базе создать клуб любителей автодела, как это тогда называлось. Отца поняли, поддержали и… отдали в его распоряжение три списанные машины и бывший каретный сарай. Он размещался напротив нового стадиона, что был устроен на бывшем плацу возле Лопатинского сада и где стоял чугунный памятник-часовня героям 1812 года, а по бокам его – две бронзовые пушки, с которых я смотрел первые в своей жизни футбольные матчи.
Три автомобиля: грузовой «уайт», столь же древний «бенц» и знаменитая русская легковая машина «руссо-балт». Каждая машина отличалась не только маркой и назначением, но имела и свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу как мог и чем мог и сейчас хочу вспомнить хотя бы о грузовичках.
«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон (камера и покрышка), а металлический обод, облитый сплошной резиной. Вследствие этого летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил, буксовал и терял управление на всех горках, а поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им редко. Кроме того, «уайт» имел настолько низкие борта, что отец сажал людей на пол, а там трясло совсем уж немыслимо. Кабины у него не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно посередине. Однако отец почему-то именно на нем чаще всего обучал своих бойцов.
Насколько «уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «бенц» казался несуразно коротким. У него была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина делалась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и кривые смоленские горы. Кроме того, «бенц» имел еще и конусное сцепление, которое часто слипалось, и тогда мы либо пилили на уже включенной передаче, либо отец глушил мотор и лез под машину расцеплять не желавшее расцепляться. Это случалось куда чаще, чем можно вообразить: грузовичок вел себя с капризами живого существа.
Но самым оригинальным был его сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял собой маленькую сирену с ручкой, напоминающей водопроводный вентиль, который надо было вращать как можно быстрее. Естественно, тот, кто сидел за рулем, не мог этим заниматься, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку смоляне ходили, как хотели, когда хотели и куда хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки со всего города безошибочно определяли:
– Борькин папка на драндулете шпарит!
Сложнее всего оказывалось, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была человеком, мягко говоря, взнервленным, легко выходила из равновесия, боялась машины, норовила держаться двумя руками, и вертеть сирену оказывалось нечем. А люди блуждали под колесами, несмотря на устрашающий грохот нашего «бенца», и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:
– Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!
Если при этом учесть, что сиденье «бенца» было пухлым от обилия нежнейших пружин, а смоленская мостовая – отнюдь не предназначенной для автомобильного движения, то можно вообразить, как выглядела эта езда. На каждом ухабе пассажиры взлетали выше кузова, рискуя опуститься в полнейшую неизвестность; отец при этом держался за руль, женщины – за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука. Словом, это были путешествия из раздела незабываемых.
Правда, если говорить начистоту, то отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом постоянных шуток, но отец разделял шутки в свой адрес и смеялся раньше всех. Он выпросил совершеннейший металлолом, который красноармейцы на ручках перекатили из гаража при штабе в каретный сарай напротив стадиона. И можно представить, сколько сил затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого, упорно веря, что все дело лишь в желании да труде. И ему всегда хватало и труда, и желания.
В нашем гараже не было электричества: глухой каземат без окон, цементный пол, верстак, ящик с песком и бочка с бензином. Дело в том, что бензоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду оптом, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели.
Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под «бенцем», подстелив войлочную кошму, и регулировал пресловутое конусное сцепление. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая требуемые инструменты, и громко распевал песни. У меня никогда не было ни слуха, ни голоса, но была – и есть по сей день – потребность петь во все горло. И я орал песню, которая гулко раздавалась под кирпичными сводами, и тут погас фонарь. В этот момент я подавал отцу очередной ключ, и он сказал:
– Спички над верстаком, на полочке. Сможешь сам зажечь?
– Смогу, – ответил я и наступил на керосиновую лампу, которая стояла на кошме, освещая отцу объект регулировки.
Раздался хруст, стало темно, а потом по кошме побежали огненные ручейки. Я заорал еще громче, ощутив вдруг прилив необъяснимого восторга. И сквозь ор еле расслышал треск и напряженный, но спокойный отцовский голос:
– Открой ворота и уходи. Открой ворота и уходи.
Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, как только я раздавил лампу. Но до этого он разъединил тяги и зацепился гимнастеркой за рычаг и, лежа, рвался из-под «бенца», не видя, как отцепиться. Пока я в неверном свете начинающегося пожара искал запоры ворот и открывал тяжеленные створки, а отец, разодрав до горла гимнастерку, сорвался с рычага и выкатился на волю, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг ярким пламенем, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант; бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и – руки. Конечно, это горел бензин, который выплескивался на руки, но я и сейчас помню бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил ее, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и спешно покатил горящую бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за миг до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя почти все квартиры лишились стекол.
Ознакомительная версия.