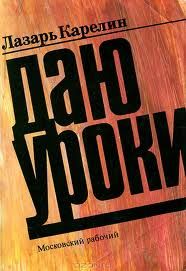И вот они в пути. "Волга" кружит, часто сворачивая, по нешироким, все больше на сход, к морю, улочкам, скучноватым, если правду-то сказать, где редки вязы-карагачи, но они хоть в силе, а деревья помоложе так исчахли от безводья, жары и знойного ветра, что даже их собственная тень от них сбежала.
И вот они въехали на маленькую круглую совсем площадь, просто площадку с единственным могучим вязом у обочины и с домом одноэтажным, приземистым, хмурым, стародавней постройки. Это и был здешний музей.
У карагача, в его тени, сидел моложавый старик в черном высоком тельпеке, в красном стеганом халате, и ему не было жарко. Он гордо сидел, зорко поглядывал, сухой был. Он чем-то торговал тут, в мешке у его ног какие-то зернышки зеленели-желтели, в них был утоплен стакан.
Не в дом этот унылый захотелось идти Знаменскому, а к старику величавому подойти. Он так и сделал, пошел от машины к продавцу, как оказалось, фисташек, чтобы поближе разглядеть столь неподвластного зною человека, с таким гордым, даже загадочным лицом, такого невозмутимого. Вот он-то и был истинным хозяином этой суровой земли. Вдруг старик пошевелил коричневыми губами, проговорил нечто невероятное:
- Ты Знаменский?.. Ашира знаешь?.. - Старик подождал, когда Знаменский кивнет ему, и тот оторопело кивнул. - Иди, куда пришел, я тебя подожду... Подойдешь потом, купишь фисташки... Иди!.. - старик закрыл глаза, отгораживаясь от вопросов.
Знаменский подчинился, повернулся и пошел к музею, от дверей которого ему махал нетерпеливо Меред. Один велел идти, другой велит спешить... И в каждом из этих, велящих, был Ашир Атаев, его из каждого выстреливали глаза. Оторопело пересек Знаменский изнывшую от жары площадку, на которой, ближе к хмурому дому, были воздвигнуты на постаментах из оплавленного солнцем песчаника чьи-то бюсты. Знаменский вгляделся, сложил посеченные ветрами буквы. Это были памятники Шаумяну, Фиолетову, Азизбекову, Джапаридзе. Так вот что это был за музей?! Это были четверо из 26-ти бакинских комиссаров, расстрелянных в восемнадцатом году где-то здесь, поблизости, английскими интервентами. Солнце плавило не плавя, склоняясь к морю, эти прямо в тебя смотрящие глаза, твердо, к смерти ужатые губы. Как велик бывает скульптор, который из самых простеньких поделок рук человеческих, призвав к работе солнце и ветер, время и память, превращает такие поделки в величественные творения, в памятники, при одном взгляде на которые у человека сжимается сердце.
С сжавшимся сердцем вошел в дом Знаменский.
Экскурсовод уже начала рассказ. Это была пожилая женщина, в темном не по-летнему платье, отдаленно и близко похожая на Надежду Константиновну Крупскую, какой она запомнилась по фотографиям уже без Ленина. Совсем другая, конечно, женщина, не то совсем лицо, но из той поры.
- Мы с вами, товарищи, находимся в бывшем арестном доме, - говорила экскурсовод. - Сюда-то и заточили двадцать шесть бакинских комиссаров, когда утром семнадцатого сентября восемнадцатого года пароход "Туркмен" встал на рейде Красноводска и был захвачен англичанами. Товарищ, прошу вас, не останавливайтесь пока у этого макета... - Экскурсовод окликала Знаменского, который, войдя, сразу натолкнулся на макет в вестибюле, воспроизводивший в объеме и в деталях расстрел двадцати шести - в песках, в пустыне, но где-то рядом, поблизости, реально рядом и поблизости от этого макета. - Мы еще вернемся, товарищ, к тем мгновениям. А пока...
Экскурсовод вошла в зал, и Самохин и Меред пошли за ней, но Знаменский не мог отойти от макета, очень тщательно исполненного, старательно повторявшего картину И.И.Бродского, о чем уведомляла выстуканная на машинке подпись. Но нет, живопись тут исчезла, сюда пришло иное. Сюда пришла истина. Так было. Вот так вот именно страшно все там и происходило, где-то совсем рядом, в песках, неподалеку. Тот же воздух овевал этот макет, что и тогда, там. Те же песчинки сюда залетали. И тот же зной тут царил. Расстреливаемые, в которых уже нацелились стволы, стояли со вскинутыми руками, будто они вышли на митинг, обращались к народу. Они угадали, так встав перед смертью. Они так встали перед Памятью. А эти, стрелявшие, и эти, сбоку стоявшие предатели - офицеры, штатские, батюшка в шляпе, отвернувшиеся от убиваемых, - а эти тоже застыли перед Памятью. И Память сейчас казнила их, а не тех, кого тогда убили. Не нужны были залы, никаких больше не нужно было залов. Этот арестный дом, приземистая могила, и этот макет - Память, - вот и весь музей.
Знаменский повернулся и вышел на улицу. Он продрог в музее, и впервые в Туркмении он обрадовался беспощадному солнцу, чуть лишь его согревшему. Он снова пересек площадку, прощаясь, вгляделся в молодые, - а ведь молодые совсем! - лица. Им, этим легендарным большевикам, действительно легендарным и прекрасным в своем мужестве, в своей вере, прежде всего вере, было даже меньше лет, чем ему, они были моложе. А кто - он? Закатное солнце резко высветило высеченные резцом и ветром лица, в них невозможно было всмотреться, обжигало глаза. А кто - он? Спросилось, но невозможно было ответить на вопрос, в него тоже не удавалось всмотреться.
Знаменский подошел к старику, торгующему фисташками. Смаргивая, поглядел на него, страшась, что и тут жаром обдаст глаза. Нет, прошло, мир встал на свое место, величественный старик даже слегка улыбался ему, неумело, его тонкие коричневые губы не знали улыбчивого уклада.
- Кулек тебе приготовил, - сказал старик, извлекая из мешка сверток. Фисташки... Отдашь Аширу... Сам не разворачивай... Ему подарок... Спрячь...
Знаменский взял сверток, который был не кульком, а пакетом, быстро сунул, оглянувшись, в задний брючный карман.
- Не потеряй... - Старик, остерегая, поднял сухой, коричневый палец, погрозил им.
- Не потеряю... - Знаменский пошел от старика, но тот его остановил:
- Рубль отдай!
Знаменский вернулся, извлек из кармана смятую и влажную бумажку, протянул старику. У того насмешливые искорки промелькнули в нацеленных, дульцами, глазах. Совсем как у Ашира были глаза.
- Люди смотрят, - сказал старик. - Что за продавец, которому деньги не отдают?! Иди!..
Знаменский повернулся и пошел. Не к музею, а по крутой улочке стал спускаться, идя на солнце, которое все ближе приникало к морю, к этому странному тут, беспрохладному морю, такому издали заманчиво-синему.
Вскоре из музея вышли Самохин и Меред. О чем-то они спорили. Меред настаивал, Самохин отказывался, решительно отмахиваясь. Увидев Знаменского, он торопливо пошел к нему, отмахнувшись и от подкатившей "Волги".
На крутой улочке, высоко взбежавшей, откуда широко был виден город, вжавшийся в скалы и прильнувший к морю, они сошлись, два чужестранца здесь, молча глянули друг на друга, молча стали оглядываться, отыскивая между домами промельки близкой пустыни, тех самых барханов, которые так тщательно были повторены на музейном макете.
- Меня поразил этот музей, - сказал Самохин. - И вас, вижу?
Знаменский кивнул.
- Восемнадцатый год... - Самохин удрученно всматривался в близкую даль, в побежавшие за окраинными домами гребешки барханов. - Шестьдесят шесть лет прошло с тех пор... А допусти их сюда, ведь опять начнут расстреливать. Ничуть не поумнели. Мало им, все им мало. Война продолжается, Ростислав Юрьевич, я так считаю, она и не прерывалась.
- Пожалуй.
- Только хитрее сделалась. А какие люди начинали нашу революцию, какие люди! Жаль, вы не видели их фотографий. Какие лица! Ясные! Честные! Окрыленные! Мы многого достигли, во многом победили, это так, тут спора нет. Но... в чем-то мы и потеряли, по ходу боя, так сказать... Приобвыкли, что ли?.. Когда долго идет война, когда телами в драке сшибаешься, бывает, что и друг у друга враги что-то перенимают. Можно так сказать: их роднит вражда. Парадокс, но это именно так. Поняли меня?
- Это вы обо мне?
- Да что вы?! Вообще рассуждаю. А если близко взглянуть, так и о себе. Разве я не приобвык по заграницам-то? Разве я не понабрался там чужого? Разве я тот, все тот же Санька Самохин, каким начинал в Москве? Классический пролетарий был. Все ступеньки прошел, придя из деревни, всю науку великую рабочего класса. Стране нужны были рабочие, я выучился, стал токарем на "Динамо". Стране нужны были солдаты, я вступил в июле сорок первого в Московское ополчение, а потом курсы кончил офицерские, а потом всю войну то на фронте, то в госпитале, то на фронте, то в госпитале. А потом, уже тридцатилетним, в институт иностранных языков подался. Вокруг девчонки. Стариком меня считали. Но я учился, вдалбливал в себя английский. Я так рассудил, что раз уж уцелел, кому, как не мне, бывшему солдату, отстаивать наши интересы за мирными столами переговоров. Вот как тогда занесся! И что же, стал дипломатом. Покатил Санька Самохин в дальние страны. К столам переговоров не сразу вдруг подсел, но все-таки... Сбылась мечта? Так?.. Что ж, достиг многого, если со стороны взглянуть. Но... и потерял, потерял... Измельчился... Истаскался... Расслабился... Банкетным недугом занедужил... Нефрит, а он у меня есть, наличествует в полном объеме, - это ведь, Ростислав Юрьевич, именно банкетный недуг. И сколько еще в нас с вами разных недугов, если вглядеться. Понабрались в ближнем бою. Опасная это штука ближний бой. Вы-то теперь вглядываетесь? Гляжу на вас, изучаю, похоже, что вглядываетесь. Не унывайте, у вас еще вся жизнь впереди. Даете слово, что не будете унывать?