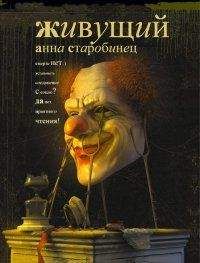– У них есть дом… – продолжал Васька, очевидно желая расположить Кривого в мою пользу.
– А у меня нет?! – усмехнулся Кривой. – Во какие хоромы!
– У него две лошади! – продолжал Васька перечислять мое могущество.
– О! А у меня четыре!
– У него бани и сто кур!
Должно быть, сто кур произвели сильное впечатление на Кривого. Он свесился и внимательно одним глазом оглядел нас.
– Да вы сами-то откуда? – спросил он.
– С его двора…
Васька назвал мою фамилию, и тут произошло совершенно неожиданное. Кривой выпрямился и торжественно снял шапку.
– Так вот кто пришел! Сам молодой хозяин! Хозяин пришел! Пожалуйте, пожалуйте сюда… Здравия желаем! Пожалуйте, поглядите… У меня тут вся механика…
Он спустился к нам и взял меня за руку. Я смотрел, ничего не понимая. Я здесь хозяин?
И Драп, и Васька смотрели на меня и на Кривого.
– А вы чего глаза пучите? Ведь это их водокачка… В бани воду подает…
У меня сильно билось сердце. Этот таинственный дом, эти лошади, колеса и цепи, этот Кривой оказались связанными со мной. Это было мое! И я, я был здесь каким-то хозяином. И все таинственное и такое заманчивое разлетелось. И Кривой, который теперь осторожно вел меня за руку по помосту, был уже просто старый человек, от которого сильно пахло дегтем и навозом. Я хорошо видел его закрытый глаз и другой, которым он добродушно смотрел на меня.
Драп и Васька шли за ним.
– Вон что! – шепотом говорил Драп. – Во-до-качка…
– Вот-с, пожалуйте… – говорил Кривой. – Все мое правление… Садитесь на стульчик…
Он смахнул рукавом с толстого чурбашка сор, взял меня за плечи и посадил.
– Очень даже на папашеньку похожи… Видите, как у нас здесь налажено. Это водокачка-с. Я при ней водолив-с, у вашего папашеньки служу. Они меня приспособили. По случаю моей старости и гла́за мне бы теперь на паперти стоять, а они меня приспособили, дай им Бог здоровья. «Ты, – говорят, – Сидор, живи у меня по случаю, как ты служил верой и правдой и кровь свою проливал, и как захочешь, я тебя всегда в богадельню определю». А я говорю: «Я хочу сам себе прокормление иметь, и дайте мне какое услужение работы». А они смеются и говорят: «Дуракам закон не писан, служи водоливом, а за мной считай угол по самый день смерти». Слыхали про Сидора-то Кривого? Это я самый-с и есть.
Он стоял передо мной, склонив голову набок, и смотрел. И Драп, и Васька смотрели. Их приятель так неожиданно оказался таким могущественным. Чувство стыдливого замешательства испытывал я. Я, такой маленький и слабый, оказался хозяином всего, что было кругом, – колес и цепей, лошадей, которые мирно пожевывали в стойлах, сотен голубей, рядками сидевших на стропилах, и этого большого человека, который всем управляет здесь и так бережно и ласково относится ко мне.
– Вот-с лошадки… Эй, вы! Губошлеп, Стальная!
– Стальная?! Где Стальная?
– А вот-с, серенькая-то… Она самая-с… Ужли узнали? Ну, иди!
Он хлопнул Стальную по крупу, вывел из стойла и поставил головой на меня.
Стальная! Вот нам где пришлось встретиться! Столько слез пролил я год назад, когда ее уводили от нас! Цыган уводил ее. Она, бывало, возила детей кататься, как старая и смирная лошадка.
«Заложить Стальную!»
Я, кажется, еще и сейчас слышу этот далекий теперь голос отца.
Но она стала слепнуть и натыкаться на фонарные столбы, и цыган обменял ее на Ворончика, получив еще придачи. Пропала Стальная. И вот теперь снова была передо мной она, повислая, с красными, воспаленными глазами и сильно вздутым животом, с задней ногой, обернутой в грязную тряпку. Вот где привела судьба встретиться! Но она была все того же «мышиного» цвета, с черным клеймом на левой задней ноге, у крупа.
– Узнали-с? Опять у нас. Пал у нас Гнедой на водокачке, и пошел я смотреть на Конную. А она там. Цыган-то ее всучил извозчику, а она, конечно, ему не подошла, ну и попала на Конную. Мы и купили. Тут ей теперь самое настоящее место.
Я не понимал, почему ей было тут «место». Но я был рад, что она опять у нас, милая Стальная. Я потрепал ее по губам. Она потянула носом и взметнула мордой.
– Признала! Лошадь уж всегда признает!
Мне и самому показалось, что она признала меня. Она обнюхивала мои руки; она всматривалась мутными глазами, медленно подымая волосатые веки. И было грустно. Какая она обвислая вся, старая…
– Последний ей здесь етап, – сказал Сидор. – Всем им… Покружатся, а потом на живодерку… В чистую отставку выйдут!..
И он начал показывать нам всех поочередно. Лошади… Какие лошади!
– Этот будет Губошлеп. Все зубы съел. Был мерин гнед, теперь шерсти на нем нет[39]. Ходит в сапожке, ножки – что сошки, а сам Губошлеп. Вот какой красавец кавалер!
На правой ноге у него была намотана из сена и рогожи огромная култышка. Весь он был точно изъеден молью, и в потертых местах виднелись розоватые пятна кожи. Понурый, стоял он перед нами и жевал обвислыми губами.
– Самое теперь настоящее имя ему – Губошлеп. Была лошадь военная, теперь, как и я, калека, проживает два века. Ну, слу-ша-а-ай!..
Он приложил ладонь ко рту и затрубил:
– Ти-там-трру!.. Ти-там-тру-ру-ру!..
Губошлеп застриг ушами и поднял голову.
Губы подобрались, и глаза как-то тревожно-печально осматривали нас. Он точно искал чего-то.
– Не забыл команды! На турку ходил, самые Балканы переходил, себе ногу повредил. Ваш папаша его за диковинку купили, на водокачку, в богадельню, определили. Ничего, конь крепкий.
Сидор говорил очень складно, посмеиваясь, но никто из нас не смеялся. Мы смотрели на невиданных лошадей.
– Так-то, животинки мои! Живешь – не с кем покалякать, помрешь – некому будет поплакать. Вот у нас с ими и компания. Они всё понимают. А это вот «Вот те на» – голая спина. Был конь-огонь, теперь по воду ходит.
Он вывел из стойла худую высокую лошадь. Были видны ребра, сильно выдавались ключицы с впадинами и острый хребет, на котором можно было пересчитать все позвонки.
– Сытая лошадка! Как на Конной вывели ее да как папашенька ваш поглядели на нее, да и говорят: «Вот те на! Одна-то кость». Ну, я так ее и зову. А бывало, Васькой звали… Старательная… на овес. Только ноги волочит, помирать не хочет. А вот и четвертая, Сахарная. Потому сахар у меня крала.
– Как – крала?
– Очень хитрая была из себя. Давно было. Забралась ко мне в каморку, мордой дверь с крючка сшибла да прямо в сахар – на полочке у меня лежал. Весь пакет сожрала. Так я ее с той поры Сахарной и зову.
Сахарная была коротенькая рыжая лошадка, с маленькой мордочкой. Ее плечи были сильно побиты, с болячками в пластырях. Она стояла перед нами, низко опустив голову, и даже как будто покачивалась.
– Этой всякий срок вышел. Прощай, Сахарная! Теперь на сапоги…
– Как – на сапоги?
– На живодерку. А там, конечно, не погладят. Так-то, молодой хозяин! Прошла весь свой круг жизни.
Сахарная стояла, покачивая головой, как будто слушала и хотела сказать, что она понимает, о чем говорит Сидор.
– И жалко тебя, старуха, а нет никакой возможности. Предел судьбы…
– Жалко, – сказал я. – Сидор, не надо ее на живодерку!
– Не надо… Уже продали. Завтра коновал придет. Ешь, Сахарная, напоследок, отведи душеньку…
Он отвел ее в стойло и подсыпал овса.
– Дяденька, а там уж ее пристукнут? – спросил Васька.
– На перину положат, блинами будут кормить… – хмуро сказал Сидор.
Сахарная стояла тихо, поставив заднее копыто на ребро, как будто и стоять-то ей было уже не под силу, и качала головой в кормушке. Я зашел ближе… Что она делала! Она, должно быть, уже не могла есть. Набирала овес, медленно шевелила губами, а овес сыпался назад в кормушку. Она заметила меня и скосила глаз. Я осторожно погладил ее по влажным губам. Тогда она затрясла головой и повернулась ко мне. Смотрела…
– Теперь пожалуйте, баринок, всю фабрику мою смотреть…
– Сидор! Вы вот что… Ее не надо на живодерку… Смотрите, она, должно быть, плачет…
– Все оне плачут. Я-то уж их вот как знаю. Все-то их жилки знаю. Круглый год тут с ними, как сверчок, сижу. Вот эта самая-то Сахарная пять годов со мной тут, так весь ее карахтер знаю… И вот как, бывало, остановишь всю эту машину и пойдешь спать. А оне, значит, после работы едят. И вот как ночью проснешься и слышишь…
– Что слышишь?
– А всё… Как оне будто промеж себя… Разговор какой у них…
Сидор присел на другой обрубок и закурил трубку. Она у него была старая, закопченная, с медной откидывающейся решеточной крышечкой.
– Да-а… И вот, стало быть, перво-наперво это вот Стальная… Весело так: «И-и-и-их-хи-и-и-и!..» Эта уж всегда начинает. И так это у ней к концу жалостливо! Да-а… Ну а непонятно. Так будто это: жила я, говорит, стало быть, в хорошей жизни и возила хорошую публику. И была у меня, скажем, сбруя вся как из золота. И ела я, значит, самый первый сорт. А теперь мне, значит, вышел перемен судьбы ужасный, и я на водокачке. И потом опять так: «И-и-орррр!» Будто меня кличет: «Си-и-до-орррр!» Ну, конечно, крикнешь: «Э, черрртт! Не ори!» Ну и замолчит. Оне меня уважают. Плохого не видали…