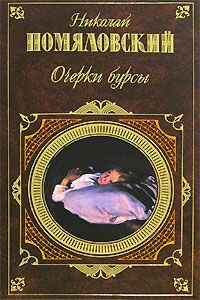Силыч толкнул Паникадилу плечом…
— Ты не толкайся!
Толчок был отдан обратно…
В такой форме бурсаки, желающие подраться, бросают друг другу перчатку.
Началось плюходействие.
Специалисты сразу же решили: «Намнут Паникадиле бока», и действительно, не прошло пяти минут, как Силыч сидел верхом на Паникадиле, мял его и спрашивал:
— Живота или смерти?
— Пусти!., черт с тобой!..
— Карася будешь трогать?
— Да ну тебя!
— То-то!
Потрясши Паникадилу за шиворот, Силыч отпустил его с миром.
Паникадило, отправляясь на свое место, думал про себя: «Черта с два: эти проклятые озубки ничего не значат. А впрочем, я, быть может, мало ел их?» И после того он продолжал есть озубки и, быть может, по настоящую минуту кушает их, но более никогда он не решался схватываться с Силычем…
Таким образом, куча плюх, смазей и салазок, тычков, швычков и плевков, зуботрещин, заушений и заглушений пронеслась довольно благополучно над головой Карася.
И опять повторим: не для всех проходят первые дни бурсацкой жизни так счастливо, как они счастливо миновались для Карася… Но ни для кого они не остаются без последствий; не остались без них и для Карася.
Первые впечатления бурсы на Карася были таковы, что не помоги Силыч, то он, как говорит сам, превратился бы в подлеца либо в дурака. Эти впечатления определили главным образом весь дальнейший характер его бурсацкой жизни.
По отношению к начальству он сделался полнейшим, закаленным, пропеченным бурсаком… Главное начало товарищества, ненависть к своему начальству, в нем укоренилось и развилось более, нежели в ком другом. Он получил доучилищное воспитание довольно гуманное и честное, но бурса должна была положить на него свое клеймо. Лобовская порка сделала то, что он после ее никогда уже не мог обращаться со своим начальником просто, спокойно и откровенно. Доверенность к начальству в нем была убита сразу и навсегда. Это главным образом выразилось в том, что он никогда не мог смотреть начальнику прямо в глаза, а всегда исподлобья; никогда не говорил естественным голосом, а заунывным и фальшивым, гробовым и нижнетонным; всегда пред начальником ежился и потому не любил встречаться с ним. Он каждую минуту точно чувствовал себя провинившимся, хотя бы и ни в чем не был виноват. Это странное чувство, заставлявшее держать себя так, не было следствием страха, потому что, как увидим ниже, Карась не был очень труслив, часто решался на дерзости и штуки, на которые решались немногие. Дело вот в чем. Карась положительно сознавал, что он ненавидит бурсу, ее воспитателей, ее законы, учебники, бурсацкие щи и кашу — и в то же время должен покоряться начальству, улыбаться перед ним, кланяться, а иногда и льстить даже. Держать себя прямо, высказываться без обиняков было нельзя, потому что запорют, и вот Карась навсегда сбычился пред начальством. Тут действовал не страх, а совестливость. Когда сколько-нибудь честному человеку, уважающему свою личность, приходится гнуть спину, гнуть невольно, насильно, неизбежно, под страхом всевозможного заушения, тогда он будет гнуть ее как человек, которого мучит совесть.
В Карасе так и устроилось: либо он дерзок с начальником, либо смотрит каким-то чудаком. Многие педагоги, вероятно, чутьем чуют, что они нехорошие педагоги, когда преследуют таких учеников, как Карась, когда они строго говорят ученику: «Смотри прямо мне в глаза, имей лицо веселое и спокойное, отвечай урок твердо и четко!» — «Кто не может смотреть прямо в глаза начальнику, — утверждают такие педагоги, — у того совесть нечиста». Спорить нельзя, что это верно. Как же: ученик сознает ведь, что он должен плюнуть в лицо своего учителя, а вместо того должно улыбаться пред ним: на душе становится скверно, и улыбка выходит странная. Разумеется, Карась и сам не понимал, отчего он и говорит, и улыбается, и кланяется при встрече с начальником не по-людски; он не развился еще до анализа и не мог определить, что тут действовала именно совесть; он это только инстинктивно слышал в себе и уже гораздо позже сознательно разобрал источник своих отношений к властям. Впрочем, изо всего этого никоим образом не следует, чтобы потупленность ученика пред учителем всегда была следствием затаенной ненависти первого к последнему: она может происходить от простой застенчивости. Но мы говорим только о Карасе. Такая замаскированная ненависть Карася изредка разрешалась откровенною с его стороны дерзостью, а без покровов сказывалась очень сильно за спиной начальства, когда гадили ему секретным образом. Правда, и самое гаженье начальству в первые годы не было призванием Карася, но, что увидим из дальнейших очерков, оно впоследствии, когда Карась развился несколько, сделалось его сознательным делом… Сначала, и именно в то время, которое берем, он инстинктивно ненавидел своих педагогов, а после дошел до уверенности, что их следует ненавидеть, обязательно следует. Боязнь и совестливость пред начальством в дальнейшем развитии его превратились в глубокую, органическую ненависть к нему. Но о втором периоде после. Теперь мы застаем его пока в состоянии этой придавленности и потупленности пред своими бурсацкими — пестунами…
Но и в этот период своего развития, когда характер его еще не успел вполне сложиться, Карась стал несколько оригинально к своим властям сравнительно с другими бурсаками, протестовавшими против начальства. Карась занял почти исключительное положение в бурсе. По крайней мере половины вредных условий, имеющих злое влияние на бурсака, для него не существовало. Его человеческое достоинство было защищено простой, грубой, мышечной силой первого богатыря класса, и эта грубая сила спасла его. Ему не пришлось пред товарищами кланяться, льстить, говорить второкурсникам на ночь сказки, давать им деньги и булки, искать в их головах тварей разного рода, чесать пятки, бегать за водой и т. п. В продолжение бурсацкой жизни он только три раза дал взятку — и то подошли особые случаи. Он, под покровительством Силыча, еще будучи новичком, скоро приобрел все выгоды п льготы второкурсника. Четырех лет, пока не исключили Силыча, достаточно было, чтобы привыкнуть Карасю держать себя независимо, он знать не хотел ни авдиторов, ни цензоров, ни старших. Но при таком положении он не воспользовался кулаками Силыча, чтобы угнетать других: его самого чуть не — оглушили навеки, он этого никогда не забывал и с тех пор относился к властям из товарищей и к физической бурсацкой силе отрицательно, притом Силыч и сам не любил взяток и утеснений, потому не стал бы помогать в том и Карасю. Карась в редких случаях прибегал к его помощи, большею частию при нужде он сам дрался, и если бывал при этом поколочен, то обыкновенно либо ругался, либо пускал в противника камнем, книгой, линейкой; если же при схватке с более сильным врагом не случалось под рукой оружия, то он употреблял и дело зубы, когти и ноги, то есть кусался, царапался и лягался. Нередко был Карась бит, бивал и других, но все это было в порядке бурсацких вещей — и только. Поэтому-то покровительство Силыча, при таком направлении его, не навлекало на Карася неприязни товарищей. Многие даже любили его. Испытав на себе горькую участь беззащитного человека в бурсе, он нередко употреблял кулаки Силыча, иногда же свои зубы, когти и ноги и пользу угнетенных. В продолжение последних четырех лет училищной жизни он постоянно был авдитором, часто терпел наказания за преувеличивание баллов — и только раз увлекся взяткой. Постоянный его протест в защиту заколоченных личностей выразился в том обстоятельстве, что он особенно любил дураков. Так, без него совершенно погиб бы Петры Тетеры, упоминаемый нами и прошлом очерке. Тетеры, обладавший воловьею силою, по характеру был чистейший теленок. Все его колотили. плевали на него, обирали его. Карась в продолжение полугода защищал его и успел-таки поставить своего Тетеры на ноги, даже до того, что сам однажды получил от него трепку. Карась, не будучи сам дураком, любил глупцов, проводил с ними целые часы, беседовал с ними, играл, делился добром своим, помогал им. В этом, по-видимому, странном явлении выразился тоже своего рода протест против некоторых сторон бурсацкой жизни. Карась был привязан к своему родному дому, но большинство умных бурсаков, к которым он обратился бы со своими интимностями, непременно сделали-бы ему смазь, потому что интимности на языке бурсаков носят название телячьих нежностей. Ни с кем так не был откровенен Карась, как с дураками, только с ними говорил о родном доме, вспоминал домашнюю жизнь, делил семейные тайны, только с ними был задушевен не по-бурсацки, а по-человечески. Карась, по чувству ложного стыда и боязни насмешек, не только скрывал внутреннюю, самую дорогую для него жизнь, но даже напускал на себя цинизм и сам смеялся над телячьими нежностями, так что это разноречие между внешним выражением и внутренним содержанием составило почти вторую натуру Карася. Но душа требовала отзыва, и Карась окружил себя особого рода дураками. Это род дураков честных, добрых, милых, задушевных. Благодаря бога, таких дураков немало на белом свете. Только в семинарии Карась вступил в дружбу с умными людьми. Но неужели, спросят, в бурсе Карась не нашел ни одного человека умного, с которым мог бы поговорить по душе? Как не найти, но на первых порах он не сошелся с ними, а потом так и пошло на долгое время.