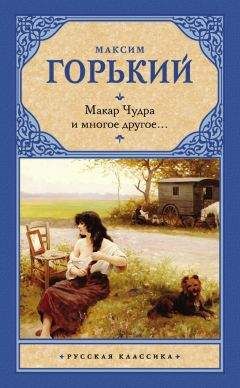С каждой новой книгой эта несхожесть русской жизни с жизнью иных стран выступает предо мною всё яснее, возбуждая смутную досаду, усиливая подозрение в правдивости жёлтых, зачитанных страниц с грязными углами.
И вдруг мне попал в руки роман Гонкура «Братья Земганно», я прочитал его сразу, в одну ночь, и, удивлённый чем-то, чего до этой поры не испытывал, снова начал читать простую, печальную историю. В ней не было ничего запутанного, ничего внешне интересного, с первых страниц она казалась серьёзной и сухой, как жития святых. Её язык, такой точный и лишённый прикрас, сначала неприятно удивил меня, но скупые слова, крепко построенные фразы так хорошо ложились на сердце, так внушительно рассказывали о драме братьев-акробатов, что у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу. Я плакал навзрыд, читая, как несчастный артист со сломанными ногами ползёт на чердак, где его брат тайно занимается любимым искусством.
Отдавая эту славную книгу закройщице, я просил её дать мне ещё такую же.
– Как это такую же? – спросила она, усмехаясь.
Эта усмешка смутила меня, и я не сумел объяснить, чего мне хочется, а она говорила:
– Это – скучная книга, вот, подожди, я тебе принесу другую, интереснее…
Через несколько дней она дала мне Гринвуда «Подлинную историю маленького оборвыша»; заголовок книги несколько уколол меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга, – так с этою улыбкою я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два, по три раза.
Так вот как трудно и мучительно даже за границею живут иногда мальчики! Ну, мне вовсе не так плохо, значит – можно не унывать!
Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попалась уже настоящая «правильная» книга – «Евгения Гранде».
Старик Гранде ярко напомнил мне деда, было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоевшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новом незлобивом, спокойном. Все ранее прочитанные мною книги, кроме Гонкура, судили людей так же строго и крикливо, как мои хозяева, очень часто они вызывали симпатию к преступнику и чувство досады на добродетельных людей. Всегда было жалко видеть, что, при огромной затрате разума и воли, человек всё-таки не может достичь желаемого, – добродетельные люди стоят перед ним с первой до последней страницы незыблемо, точно каменные столбы. Хотя об эти столбы неизбежно разбиваются все злые намерения порока, но – камни не возбуждают симпатии. Ведь как бы ни была красива и крепка стена, но, когда хочешь сорвать яблоко с яблони за этой стеной, – нельзя любоваться ею. А мне уже казалось, что наиболее ценное и живое спрятано где-то за добродетелью…
У Гонкура, Гринвуда, Бальзака – не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые; они не позволяли сомневаться, что всё сказанное и сделанное ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе.
Таким образом я понял, какой великий праздник «хорошая, правильная» книга. Но как найти её? Закройщица не могла помочь мне в этом.
– Вот хорошая книга, – говорила она, предлагая мне Арсена Гуссэ «Руки, полные роз, золота и крови», романы Бэло, Поль де Кока, Поль Феваля, но я читал их уже с напряжением.
Ей нравились романы Марриета, Вернера, – мне они казались скучными. Не радовал и Шпильгаген, но очень понравились рассказы Ауэрбаха. Сю и Гюго тоже не очень увлекали меня, я предпочитал им Вальтер-Скотта. Мне хотелось книг, которые волновали бы и радовали, как чудесный Бальзак. Фарфоровая женщина тоже всё меньше нравилась мне.
Являясь к ней, я надевал чистую рубаху, причёсывался, всячески стараясь принять благообразный вид, – едва ли это удавалось мне, но я всё ждал, что она, заметив моё благообразие, заговорит со мною более просто и дружески, без этой рыбьей улыбки на чистеньком, всегда праздничном лице. Но она, улыбаясь, спрашивала усталым и сладким голосом:
– Прочитал? Понравилось?
– Нет.
Чуть приподняв тонкие брови, она смотрела на меня и, вздыхая, знакомо говорила в нос:
– Но почему же?
– Я уж читал об этом.
– О чём – об этом?
– О любви…
Прищурясь, она смеялась сахарным смешком.
– Ах, но ведь во всех книгах пишут о любви!
Сидя в большом кресле, она болтает маленькими ножками в меховых туфлях, позёвывая, кутается в голубой халатик и стучит розовыми пальцами по переплёту книги на коленях у неё.
Мне хочется спросить:
«Что же вы не съезжаете с квартиры? Ведь офицеры всё пишут записки вам, смеются над вами…»
Но не хватает смелости сказать ей это, и я ухожу, унося толстую книгу о «любви» и печальное разочарование в сердце.
На дворе говорят об этой женщине всё хуже, насмешливее и злее. Мне очень обидно слышать эти россказни, грязные и, наверное, лживые; за глаза я жалею женщину, мне боязно за неё. Но когда, придя к ней, я вижу её острые глазки, кошачью гибкость маленького тела и это всегда праздничное лицо, жалость и страх исчезают, как дым.
Весною она вдруг уехала куда-то, а через несколько дней и муж её переменил квартиру.
Когда комнаты стояли пустые, в ожидании новых насельников, я зашёл посмотреть на голые стены с квадратными пятнами на местах, где висели картины, с изогнутыми гвоздями и ранами от гвоздей. По крашеному полу были разбросаны разноцветные лоскутки, клочья бумаги, изломанные аптечные коробки, склянки от духов и блестела большая медная булавка.
Мне стало грустно, захотелось ещё раз увидать маленькую закройщицу, сказать, как я благодарен ей…
Ещё до отъезда закройщицы под квартирою моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой, непрерывно курившей папиросы из янтарного мундштука. Дама была очень красивая; властная, гордая, она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех вскинув голову, чуть-чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от неё и она плохо видит их. Почти каждый день к крыльцу её квартиры черный солдат Тюфяев подводил тонконогого рыжего коня, дама выходила на крыльцо в длинном, стального цвета, бархатном платье, в белых перчатках с раструбами, в жёлтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня, – он косился на неё огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утоптанной земле.
– Робэр, Ро-обэр, – негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее.
Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шёл по дамбе; она сидела на седле так ловко, точно приросла к нему.
Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданною и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на неё, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье, королева Марго, девица Ла-Вальер и другие красавицы, героини исторических романов.
Её постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей в городе, по вечерам у неё играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели. Чаще других около неё вертелся на коротеньких ножках майор Олесов, толстый, краснорожий, седой и сальный, точно машинист с парохода. Он хорошо играл на гитаре и вёл себя, как покорный, преданный слуга дамы.
Так же счастливо красива, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Её огромные синеватые глаза смотрели серьёзно, спокойно ожидающим взглядом, и было в этой девочке что-то недетски вдумчивое.
Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо немым, и толстой, косоглазой горничной; няньки у ребенка не было, девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче брёвен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснёт, а я её отнесу в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришел проститься с нею. Я приходил, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила:
– Прощай до завтра! Бабушка, как нужно сказать?
– Храни тебя господь, – говорила бабушка, выпуская изо рта и острого носа сизые струйки дыма.
– Храни тебя господь до завтра, а я уж буду спать, – повторяла девочка, кутаясь в одеяло, обшитое кружевом. Бабушка внушала ей:
– Не до завтра, а – всегда!
– А разве завтра не всегда бывает?
Она любила слово «завтра» и всё, что нравилось ей, переносила в будущее; натыкает в землю сорванных цветов, сломанных веток и говорит:
– Завтра это будет сад…
– Когда-нибудь завтра я тоже куп’ю себе ошадь и поеду верхом, как мама…
Она была умненькая, но не очень весёлая, – часто во время оживлённой игры вдруг задумается и спросит неожиданно:
– Зачем у священников во’осы, как у женщинов?
Обожглась крапивой и, грозя ей пальцем, сказала: