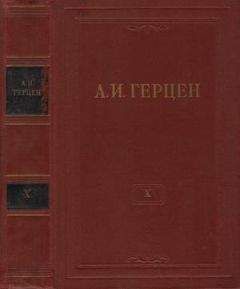Воспрещается ему впредь возвращаться, под опасением наказаний, положенных 8 пунктом того же закона (тюремное заключение от одного месяца до шести и денежный штраф).
Все меры будут приняты для удостоверения в исполнении сих распоряжений.
Сделано (Fait) в Париже 16 апреля 1850.
Префект полиции П. Карлье.
Скрепил общий секретарь префектуры Клемен Рейр.
На боку: Читал и одобрил 19 апреля 1850 г.
Министр внутренних дел Ж. Барош.
Лета тысяча восемьсот пятидесятого, апреля двадцать четвертого. Мы, Емилий Буллей, комиссар полиции города Париж в особен ности Тюльерийского отделения, во исполнение приказаний господина префекта полиции от 23 апрели:
Объявили сударю (sieur) Александру Герцену, говоря ему, как сказано в оригинале».
Тут следует весь текст опять. В том роде, как дети говорят сказку о белом быке, повторяя всякий раз с прибавкой одной фразы: «Сказать ли вам сказку о белом быке?»
Далее: «Мы пригласили поименованного (le dit) Герцена явиться в продолжение двадцати четырех часов в префектуру для получения паспорта и для назначения границы, через которую он выедет из Франции.
А чтоб сказанный сударь Герцен не отозвался неведением (n'en prétende cause d'ignorance – каков язык!), мы ему оставили эту копию сказанного решения в начале сего настоящего нашего протокола объявления. – Nous lui avons laissé cette copie tant du dit arrêté en têto de cette présente de notre procès-verbal de notification».
Где мои вятские товарищи по канцелярии Тюфяева, где Ардашов, писавший за присест по десяти листов, Вепрёв, Штин и мой пьяненький столоначальник? Как сердце их должно возрадоваться, что в Париже, после Вольтера, после Бомарше, после Ж. Санд и Гюго, пишут так бумаги! Да и не один Вепрёв и Штин должны радоваться – а и земский моего отца Василий Епифанов, который, из глубоких соображений учтивости, писал своему помещику: «Повеление ваше по сей настоящей прошедшей почте получил и по оной же имею честь доложить…»
Можно ли оставить камень на камне этого глупого, пошлого здания des us et coutumes[192], годного только для слепой и выжившей из ума старухи, как Фемида?
Чтение не произвело ожидаемого действия. Парижанин думает, что высылка из Парижа равняется изгнанию Адама из рая, да и то еще без Евы – мне, напротив, было все равно и жизнь парижская уже начинала надоедать.
– Когда должен я явиться в префектуру? – спросил я, придавая себе любезный вид, несмотря на злобу, разбиравшую меня.
– Я советую завтра, часов в десять утра.
– С удовольствием.
– Как нынешний год весна рано начинается, – заметил комиссар города Парижа и в особенности Тюльерийский.
– Чрезвычайно.
– Это старинный отель, здесь обедывал Мирабо, оттого он так и называется; вы, верно, были им очень довольны?
– Очень. Вообразите же, каково с ним расстаться так круто!
– Это действительно неприятно… хозяйка умная и прекрасная женщина – М-llе Кузен – была большой приятельницей знаменитой Lenormand.
– Представьте себе! Как досадно, что я этого не знал! Может, она унаследовала у нее искусство гадать и могла бы мне предсказать billet doux[193] Карлье.
– Ха, ха… мое дело вы знаете, позвольте пожелать.
– Помилуйте, всякое бывает, честь имею вам кланяться.
На другой день я явился в знаменитую, больше чем сама Ленорман, улицу Jérusalem. Сначала меня принял какой-то шпионствующий юноша, с бородкой, усиками и со всеми приемами недоношенного фельетониста и неудавшегося демократа; лицо его, взгляд носили печать того утонченного растления души, того завистливого голода наслаждений, власти, приобретений, которые я очень хорошо научился читать на западных лицах и которого вовсе нет у англичан. Должно быть, он еще недавно поступил на свое место: он еще наслаждался им и потому говорил несколько свысока. Он объявил мне, что я должен ехать через три дни и что без особенно важных причин отсрочить нельзя. Его дерзкое лицо, его произношение и мимика были таковы что, не вступая с ним в дальнейшие рассуждения, я поклонился ему и потом спросил, надев сперва шляпу, когда можно видеть, префекта.
– Префект принимает только тех, кто у него письменно просит аудиенции.
– Позвольте мне написать сейчас.
Он позвонил, вошел старик huissier[194], с цепью на груди; сказав ему с важным видом: «Бумаги и перо этому господину», юноша кивнул мне головой.
Huissier повел меня в другую комнату. Там я написал Карлье, что желаю его видеть, чтоб объяснить ему, почему мне надобно отсрочить мой отъезд.
В тот же день вечером я получил из префектуры лаконический ответ: «Г. префект готов принять такого-то завтра, в два часа».
Тот же самый противный юноша встретил меня и на другой день; у него была особая комната, из чего я и заключил, что он нечто вроде начальника отделения. Начавши так рано и с таким успехом карьеру, он далеко уйдет, если бог продлит его живот.
На сей раз он привел меня в большой кабинет; там, за огромным столом, на больших покойных креслах, сидел толстый, высокий, румяный господин из тех, которым всегда бывает жарко, с белыми, откормленными, но рыхлыми мясами, с толстыми, но тщательно выхоленными руками, с шейным платком, сведенным на минимум, с бесцветными глазами, с жовиальным[195] выражением, которое обыкновенно принадлежит людям, совершенно потонувшим в любви к своему благосостоянию и которые могут подняться холодно и без больших усилий до чрезвычайных злодейств.
– Вы желали видеть префекта, – сказал он мне, – но он извиняется перед вами: очень нужное дело заставило его выехать, – если я могу сделать вам чем-нибудь что-нибудь приятное, я ничего лучшего не прошу. Вот кресло, не угодно ли?
Все это высказал он плавно, очень учтиво, несколько щуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены его скулы. «Ну, этот давно служит», – подумал я.
– Вы, верно, знаете, зачем я пришел.
Он сделал головою то тихое движение, которое делает всякий, начиная плавать, и не отвечал ничего.
– Мне объявлен приказ ехать через три дня. Так как я знаю, что министр у вас имеет право высылать, не говоря причины и не делая следствия, то я и не стану ни спрашивать, почему меня высылают, ни защищаться; но у меня есть, сверх собственного дома…
– Где ваш дом?
– 14, rue Amsterdam… очень серьезные дела в Париже, мне трудно их оставить сразу.
– Дозвольте узнать, какие у вас дела: по дому или…?
– Дела мои у Ротшильда, мне приходится получить тысяч четыреста франков.
– Как-с?
– С небольшим сто тысяч roubles argent[196].
– Это значительная сумма!
– C'est une somme ronde[197].
– Сколько времени вам нужно для окончания вашего дела? – спросил он, глядя на меня еще кротче, так, как глядят на выставленные в окнах фазаны с трюфлями.
– От месяца до шести недель.
– Это ужасно много.
– Процесс мой в России. Чуть ли не по его милости я и оставляю Францию.
– Как так?
– С неделю тому назад Ротшильд мне говорил, что Киселев дурно обо мне отзывался. Вероятно, петербургскому правительству хочется замять дело, чтоб о нем не говорили; чай, посол попросил по дружбе выслать меня вон.
– D'abord[198], – заметил, принимая важный и проникнутый сильным убеждением вид, обиженный патриот префектуры, – Франция не позволит ни одному правительству мешаться в ее внутренние дела. Я удивляюсь, как вам могла прийти такая мысль в голову. Потом, что может быть естественнее, как право, которое взяло себе правительство, старающееся всеми силами возвратить порядок страждущему народу, удалять из страны, в которой столько горючих веществ, иностранцев, употребляющих во зло то гостеприимство, которое она им дает?
Я решился его добивать деньгами. Это было так же верно, как в споре с католиком употреблять тексты из евангелия, а потому, улыбнувшись, я возразил ему:
– За гостеприимство Парижа я заплатил сто тысяч фраков и потому считал себя почти сквитавшимся.
Это удалось еще лучше, чем моя «somme ronde». Он сконфузился и, сказав после небольшой паузы:
– Что нам делать? Мы в необходимости, – взял со стола мой досье. Это был второй том романа, первую часть которого я видел когда-то в руках Дубельта. Поглаживая листы, как добрых коней, своей пухлой рукой:
– Видите ли, – приговаривал он, – ваши связи, участие в неблагонамеренных журналах (почти слово в слово то же что мне говорил Сахтынский в 1840), наконец, значительные subventions[199], которые вы давали самым вредным предприятиям, заставили нас прибегнуть к мере очень неприятной, но необходимой. Мера эта удивлять вас не может. Вы даже в своем отечестве навлекли на себя политические гонения. Одинакие причины ведут к одинаким последствиям.