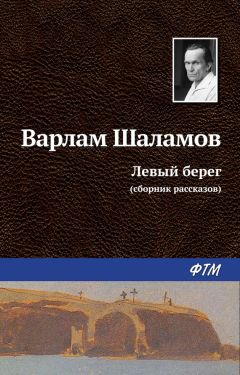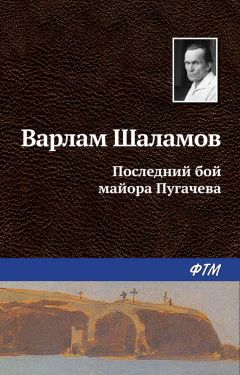- Не хотите ли газетку - вот видите, Коминтерн распущен. Вам это будет интересно.
Нет, мне не было это интересно. Вот закурить бы.
- Уж извините. Я некурящий. Вот видите - вас обвиняют в восхвалении гитлеровского оружия.
- Что это значит?
- Ну, то, что вы одобрительно отзывались о наступлении немцев.
- Я об этом почти ничего не знаю. Я не видел газет много лет. Шесть лет.
- Ну, это не самое главное. Вот вы сказали как-то, что стахановское движение в лагере - фальшь и ложь.
В лагере было три вида пайков - "котлового довольствия" заключенных стахановский, ударный и производственный - кроме штрафных, следственных, этапных. Пайки отличались друг от друга количеством хлеба, качеством блюд. В соседнем забое горный смотритель отмерил каждому рабочему расстояние - урок и прикрепил там папиросу из махорки. Вывезешь грунт до отметки - твоя папироса, стахановец.
- Вот как было дело,-сказал я.- Это - уродство, по-моему.
- Потом вы говорили, что Бунин - великий русский писатель.
- Он действительно великий русский писатель. За то, что я это сказал, можно дать срок?
- Можно. Это - эмигрант. Злобный эмигрант. "Дело" шло на лад. Федоров был весел, подвижен.
- Вот видите, как мы с вами обращаемся. Ни одного грубого слова. Обратите внимание - никто вас не бьет, как в тридцать восьмом году. Никакого давления.
- А триста граммов хлеба в сутки?
- Приказ, дорогой мой, приказ. Я ничего не могу поделать. Приказ. Следственный паек.
- А камера без окна? Я ведь слепну, да и дышать нечем.
- Так уж и без окна? Не может этого быть. Откуда-нибудь свет попадает.
- Из дверной щели снизу.
- Ну вот, вот.
- Зимой бы застилало паром.
- Но сейчас ведь не зима.
-- И то верно. Сейчас уж не зима.
- Послушайте,-сказал я.-Я болен. Обессилел. Я много раз обращался в медпункт, но меня никогда не освобождали от работы.
- Напишите заявление. Это будет иметь значение для суда и следствия.
Я потянулся за ближайшей авторучкой - их множество, всяких размеров и фабричных марок, лежало на столе.
- Нет, нет, простой ручкой, пожалуйста.
- Хорошо.
Я написал: многократно обращался в амбулаторные зоны - чуть не каждый день. Писать было очень трудно - практики в этом деле у меня маловато.
Федоров разгладил бумажку.
- Не беспокойтесь. Все будет сделано по закону.
В тот же вечер замки моей камеры загремели, и дверь открылась. В углу на столике дежурного горела "колымка" - четырехлучевая бензиновая лампочка из консервной банки. Кто-то сидел у стола в полушубке, в шапке-ушанке.
- Подойди.
Я подошел. Сидевший встал. Это был доктор Мохнач, старый колымчанин, жертва тридцать седьмого года. На Колыме работал на общих работах, потом был допущен к врачебным обязанностям. Был воспитан в страхе перед начальством. У него на приемах в амбулатории зоны я бывал много раз.
- Здравствуйте, доктор.
- Здравствуй. Разденься. Дыши. Не дыши. Повернись. Нагнись. Можно одеваться.
Доктор Мохнач сел к столу, при качающемся свете "колымки" написал:
"Заключенный Шаламов В. Т. практически здоров. За время нахождения в "зоне" в амбулаторию не обращался.
Зав. амбулаторией врач Мохнач".
Этот текст мне прочли через месяц на суде.
Следствие шло к концу, а я никак не мог уразуметь, в чем меня обвиняют. Голодное тело ныло и радовалось, что не надо работать. А вдруг меня выпустят снова в забой? Я гнал эти тревожные мысли.
На Колыме лето наступает быстро, торопливо. В один из допросов я увидел горячее солнце, синее небо, услышал тонкий запах лиственницы. Грязный лед еще лежал в оврагах, но лето не ждало, пока растает грязный лед.
Допрос затянулся, мы что-то "уточняли", и конвойный еще не увел меня а к избушке Федорова подводили другого человека. Этим другим человеком был мой бригадир Нестеренко. Он шагнул в мою сторону и глухо выговорил: "Был вынужден, пойми, был вынужден" - и исчез в двери федоровской избушки.
Нестеренко писал на меня заявление. Свидетелями были Заславский и Кривицкий. Но Нестеренко вряд ли когда-нибудь слышал о Бунине. И если Заславский и Кривицкий были подлецами, то Нестеренко спас меня от голодной смерти, взяв в свою бригаду. Я был там не хуже и не лучше любого другого рабочего. И не было у меня злобы против Нестеренко. Я слышал, что он в лагере третий срок, что он старый соловчанин. Он был очень опытным бригадиром - понимал не только работу, но и голодных людей - не сочувствовал, а именно понимал. Это дается далеко не каждому бригадиру. Во всех бригадах давали после ужина добавки - черпачок жидкого супа из остатков. Обычно бригадиры давали эти черпаки тем, кто лучше других поработал сегодня, - такой способ рекомендовался официально лагерным начальством. Раздаче добавок придавалась публичность, чуть ли не торжественность. Добавки использовались и в производственных и в воспитательных целях. Не всегда тот, кто работал больше всех, работал лучше всех. И не всегда лучший хотел есть юшку.
В бригаде Нестеренко добавки давали самым голодным - по соображению и по команде бригадира, разумеется.
Однажды в шурфе я выдолбил огромный камень. Мне было явно не под силу вытащить огромный валун из шурфа. Нестеренко увидел это, молча спрыгнул в шурф, выкайлил камень и вытолкнул его наверх...
Я не хотел верить, что он написал на меня заявление. Впрочем...
Говорили, что в прошлом году из этой же бригады ушли в трибунал два человека - Ежиков и через три месяца Исаев - бывший секретарь одного из сибирских обкомов партии. А свидетели были все те же - Кривицкий и Заславский. Я не обратил внимания на эти разговоры.
Вот тут подпишите. И вот тут.
Ждать пришлось недолго. Двадцатого июня двери распахнулись, и меня вывели на горячую коричневую землю, на слепящее, обжигающее солнце.- Получай вещи - ботинки, фуражку. В Ягодное пойдешь.
- Пойдешь?
Два солдата разглядывали меня внимательно.
- Не дойдет,- сказал один.- Не возьмем.
- То есть как это вы не возьмете,- сказал Федоров.- Я позвоню в опергруппу.
Солдаты эти не были настоящим конвоем, заказанным заранее, занаряженным. Два оперативника возвращались в Ягодное - восемнадцать верст тайгой - и попутно должны были доставить меня в Ягодинскую тюрьму.
- Ну, ты сам-то как? - говорил оперативник.- Дойдешь?
- Не знаю.- Я был совершенно спокоен. И торопиться мне некуда. Солнце было слишком горячим - обожгло щеки, отвыкшие от яркого света, от свежего воздуха. Я сел к дереву. Приятно было посидеть на улице, вдохнуть упругий замечательный воздух, запах зацветающего шиповника. Голова моя закружилась.
- Ну, пойдем.
Мы вошли в ярко-зеленый лес.
- Ты можешь идти быстрее?
- Нет.
Прошли бесконечное количество шагов. Ветки тальника хлестали по моему лицу. Спотыкаясь о корни деревьев, я кое-как выбрался на поляну.
- Слушай, ты,- сказал оперативник постарше. -Нам надо в кино в Ягодное. Начало в восемь часов. В клубе. Сейчас два часа дня. У нас за лето первый выходной день. За полгода кино в первый раз.
Я молчал.
Оперативники посовещались.
- Ты отдохни,- сказал молодой. Он расстегнул сумку.- Вот тебе хлеб белый. Килограмм. Ешь, отдохни - и пойдем. Если бы не кино - черт с ним. А то кино.
Я съел хлеб, вылизал крошки с ладони, лег к ручью и осторожно напился холодной и вкусной ручьевой воды. И потерял окончательно силы. Было жарко, хотелось только спать.
- Ну? Пойдешь? Я молчал.
Тогда они стали меня бить. Топтали меня, я кричал и прятал лицо в ладони. Впрочем, в лицо они не били - это были люди опытные.
Били меня долго, старательно. И чем больше они меня били, тем было яснее, что ускорить наше общее движение к тюрьме - нельзя.
Много часов брели мы по лесу и в сумерках вышли на трассу - шоссе, которое тянулось через всю Колыму,- шоссе среди скал и болот, двухтысячекилометровая дорога, вся построенная "от тачки и кайла", без всяких механизмов.
Я почти потерял сознание и едва двигался, когда был доставлен в ягодинский изолятор. Дверь камеры откинулась, открылась, и опытные руки дежурного дверью ВДАВИЛИ меня внутрь. Было слышно только частое дыхание людей. Минут через десять я попытался опуститься на пол и лег к столбу под нары. Еще через некоторое время ко мне подползли сидевшие в камере воры обыскать, отнять что-нибудь, но их надежда на поживу была тщетной. Кроме вшей, у меня ничего не было. И под раздраженный рев разочарованных блатарей я заснул.
На следующий день в три часа вызвали меня на суд.
Было очень душно. Нечем было дышать. Шесть лет я круглые сутки был на чистом воздухе, и мне было нестерпимо жарко в крошечной комнате военного трибунала. Большая половина комнатушки в двенадцать квадратных метров была отдана трибуналу, сидевшему за деревянным барьером. Меньшая - подсудимым, конвою, свидетелям. Я увидел Заславского, Кривицкого и Нестеренку. Грубые некрашеные скамейки стояли вдоль стен. Два окна с частыми переплетами, по колымской моде, с мелкой ячеей, будто в березовской избе Меншикова на картине Сурикова. В такой раме использовалось битое стекло - в этом-то и была конструкторская идея, учитывающая трудную перевозку, хрупкость и многое другое - например, стеклянные консервные банки, распиленные пополам в продольном направлении. Все это, конечно, заботы об окнах квартир начальства и учреждений. В бараках заключенных никаких стекол не было.