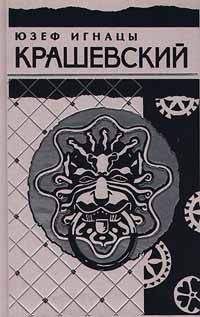стольник!
— Ах, если бы ты только знал, как это грызет мою душу, ты же обвинял бы меня, что я иногда скажу слово одно, другое. У меня это, как камень, лежит на совести: я был твоим опекуном и допустил тебя до этого.
— До чего же, пан стольник?
— Опять! Отпирайся, сколько хочешь, а я хорошо понимаю и твое странное поведение в Люблине и как ты приобрел эти деньги. Горькими слезами я их оплакиваю. Надо же мне на старости лет носить в сердце этого грызущего червя! Не может быть, чтобы это не обнаружилось. Опасная тайна, невозможно скрыть ее. Не раз ночью мне представлялось, что твои предки приходят и требуют от меня отчета в твоем поведении.
— Но, ради Бога, пан стольник, что вы обо мне думаете? Неужели вы полагаете, что я не ценю, не почитаю памяти предков и моего дворянского герба?
— Ценишь, только посыпаешь его перцем.
— Кто же это мне докажет?
— Эх, эх, не вызывай волка из лесу!
— Кто бы ни сказал это обо мне — скажет ложь! Ни один Секиринский не запятнал себя низким поступком, а я последний в их фамилии.
— Тере-фере-бука — стреляет баба из лука! Не мне бы ты это говорил, по крайней мере. О, если бы это была правда, я поцеловал бы тебя.
— Верьте, что это правда. Что общего между каким-то Фальковичем и Секиринским?
— Оставим это! Поговорим лучше о будущем. Вы теперь обладатель наследия предков, пора подумать о женитьбе.
— Я уже об этом думал, — сказал со вздохом Собеслав.
— А я так и приехал за тем, чтобы потолковать об этом. Тут не должно медлить, потому что с каждым годом жениться тебе будет труднее. Ты знаешь пословицу.
— Согласен, пан стольник; но сперва хочу высказать вам свою мысль.
— Почему бы и нет! Только бы хорошую.
— Вы знаете, какого я происхождения.
— Если бы только не этот перец.
— Благодаря Бога, я не вижу никого лучше нас в околотке. Дворянство наше восходит почти до времен баснословных; предки мои занимали первейшие места в Речи Посполитой, именьице у меня порядочное, и я могу рассчитывать на самую блистательную партию…
— Если бы только не этот перец, — упрямо повторял стольник…
— Для восстановления прежнего значения моего рода мне должно искать не столько богатства, сколько знатного происхождения, хотя бы невеста моя была из беднейшего дома.
— Мне кажется, что я слышу твоего отца, — сказал стольник, — соглашаюсь, лишь бы ты только сделал, как говоришь. Но чем дольше тебя слушаю, тем больше удивляюсь, что ты с таким почтением к древности твоего рода пустился в такую грязь! Ну, посоветуемся же, нет ли у тебя кого-либо на примете.
— Покамест еще нет.
— Я тоже не вижу в соседстве достойной для тебя партии. Надобно, видно, будет искать подальше, а пожалуй и возле Кракова, где живет родня твоей покойной матери. Подумаем, посмотрим, как это лучше сделать. Но постой, как же это мы забыли о панне каштелянке?
— О какой?
— Ба! Да ты, я вижу, ее не знаешь. Каштелянка, ее знают все. Сирота, живет у дяди, пана воеводы, милях в двух отсюда. Ничего лучшего придумать нельзя. Правда, у нее ничего нет, потому что отец до последнего гроша все спустил с рук.
— Молода?
— Не думаю. Потому что лет десять уже назад она была невестой, только никто не сватался. Ей лет тридцать с лишком, не более.
— Хороша собою?
— Сколько помню, красавицей не была; не знаю как теперь. Есть люди, которые с летами делаются красивее. Но тут дело идет не о красоте, а о знатности рода. Мала ростом, смугла, немножко кривобока, но приемы панские: едва мне кивнула головой, когда я был у воеводы.
Собеслав сильно призадумался.
— Тут размышлять нечего, — сказал стольник, — а надо запрягать лошадей и ехать к воеводе.
— Как, без всякого предлога?
— Предлог найдем! Надо поговорить о выборах; я тебя представлю, как кандидата в депутаты. Ты приглянешься панне, а я брошу словечко воеводе, чтобы узнать его мысли…
Собеслав ничего не отвечал; видно было, однако, душа его стеснена тяжким чувством. Но он взглянул на родословное дерево, на портреты Секиринских и сказал:
— Поедемте, пан стольник.
Старик, несмотря на свою подагру, часто даже не позволявшую ему подняться с места, был человеком живого характера. Не собираясь долго, он на другой же день отправился с Собеславом к воеводе, который временно проживал в своем замке над Вислою. Пан воевода не происходил из тех магнатов, владения которых были похожи своею обширностью на небольшие области. Он возвысился посредством женитьбы; ему было очень трудно поддерживать свое значение в столице небольшими доходами с своего имения, и он часто приезжал в деревню подышать свежим воздухом и лечить карман от излишнего напряжения сил. Здесь он жил очень экономно в своем, так называемом, замке, отличавшемся от обыкновенных деревенских домов только огромными воротами с гербом. Несмотря на то, он и здесь сохранял необходимые принадлежности знатности, и его маршалек двора ввел гостей в пустую залу с такой важностью, как будто она была наполнена драгоценными мебелями, статуями и картинами.
Пан воевода, заставив своих гостей обождать себя столько, сколько требовал его сан, явился, наконец, к ним с величественным видом и снисходительною любезностью, в которой он подражал современной знати. Попрося своих гостей садиться, он начал разговор жалобою на множество своих занятий, говорил, что король и сенат не дают ему покоя в деревне и вызывают в столицу, угрожал отказаться от своего места, и пр., и пр.
Стольник умело отвечал на все это общепринятою лестью, которая, по-видимому, произвела приятное впечатление на воеводу; потом мало-помалу перешел к выборам и представил покровительству вельможного пана своего воспитанника, о происхождении которого говорил с такою уверенностью, как будто воевода уже давно знал славу и древность его рода.
Но, увы! Насмешливая улыбка, мелькнувшая на губах магната, показала ясно, что он никогда и не слышал о Секиринских. Однако ж, вежливость заставила его потакать пану Корниковскому, и он обещал свое содействие Собеславу в достижении звания депутата в общих выражениях, которые у людей подобного рода всегда имеются в запасе.
В это время маршалек двора объявил, что кушанье подано на стол. Воевода повел гостей в столовую, где уже нашли за столом хозяйку с сыном, француза-гувернера и племянницу, каштелянку, — особу чрезвычайно невзрачную, но глядящую гордо и свысока, так что Собеслав не осмелился и подумать заговорить с ней. Разговор разделился на две партии. Хозяйка беседовала с сыном, племянницей и французом на непонятном для наших шляхтичей языке; воевода