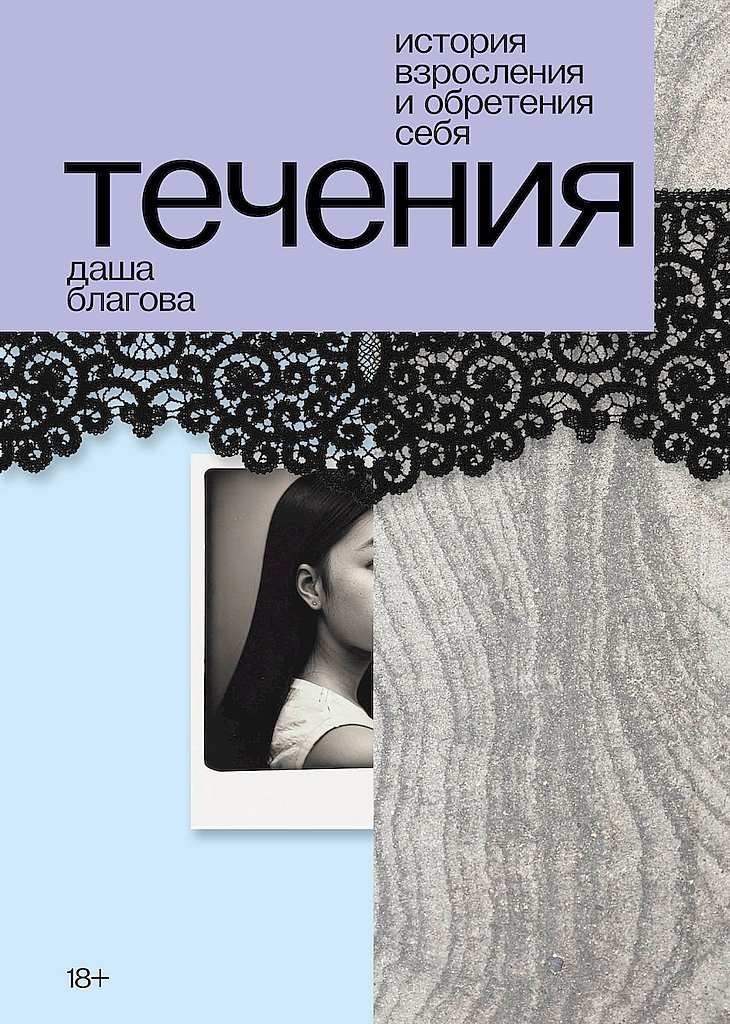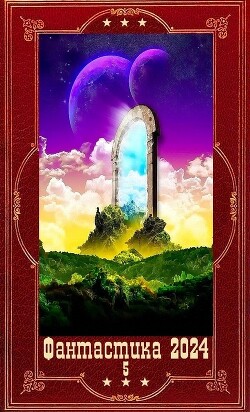подумала, что и сама хотела бы учиться на платном, не бояться быть отчисленной и выгнанной на доживание.
Пивоваров [3], конечно, красавчик, настоящий журналист, — услышала я из левого угла.
Журналист не может быть активистом, Макс, — ответили там же.
А если журналист защищает само существование своей профессии?
В следующий раз мы встретились с Верой через час или, скорее всего, два. Я уже чувствовала себя нормально и даже начала вникать в политические разговоры. После второго стакана вина мне было не стыдно задавать вопросы и признаваться, что я ничегошеньки не понимаю. В целом я была трезва. Просто больше не чувствовала панику. А Вера…
Она поймала меня за плечо, сжала больно и отвела на кухню, где уже никого не было, только музыка продолжала имитировать рабочие звуки, и мне показалось, что в такой музыке чья-то тяжелая жизнь поливается гламурно-розовым лаком, но, может быть, я просто все-таки немного захмелела, может быть, такая музыка вообще ничего не значила.
А как тебе этот гитарист, — спросила Вера прямо в ухо, и в мой висок влепилась ее слюна.
А что?
Кажется, он ко мне клеится. — И Вера захихикала, как будто была совсем глупой, и привалилась к стене.
А кто к тебе не клеится?
Да брось, никто ко мне не клеится.
И тогда я заметила, что Вера очень-очень пьяна, что она шатается и хихикает (я не выносила эти девичьи выплески) и что в ней нет ничего благородно-Вериного, а, скорее, есть что-то общажное и провинциальное. Мне стало жалко Веру, я решила, что пора бы о ней позаботиться, уложить, посидеть рядом, позволить ей вздремнуть, разбудить и довести в конце концов до квартиры, где проживала одна Вера и где так хотела жить я вместе с ней.
Знаешь, а мне вот интересно, какой он будет, ну, в постели. — Вера захихикала так визгливо и глупо, что я захотела стукнуть себя кулаками в уши.
Вера запрыгнула на мою территорию, в грязных ботинках и без бахил. И — в то же время — бросилась в глубокую зимнюю реку под лед, а я стою на берегу и могу только кричать. Я с ужасом подумала, что когда-нибудь Вера наконец лишится девственности, может быть, фу, даже станет опытной. Но это неправильно, это про меня, это я могу думать о том, кто и как ведет себя в постели.
Что ты несешь, ты же вообще не знаешь, что такое секс, — сказала я.
Вера еще совсем не готова к такому, ей хочется нравиться, хочется, чтобы ее обожали и любили за то, что она Вера, а не кто-нибудь еще. И это не совсем про секс, даже совсем не про него, это противоречит сексу. Разве Вера готова к такому?
Где ты набралась этого? — добавила я.
Почему ты говоришь со мной, как с ребенком? — сказала Вера и сжала все лицо в кулак.
Потому что ты и есть ребенок, ты ничего не знаешь о жизни, ты даже пить не умеешь.
Если ты выросла в своем грязном колхозе и ничего, кроме него, не видела, это еще не говорит о том, что ты что-то там понимаешь… Ты только и знаешь, как доить коров или чему вы там в школе учитесь…
Проговорила Вера зло и медленно, но медленно не потому, что хотела произвести какой-то дополнительный эффект, а потому, что и правда была очень пьяная и по пути теряла буквы. За одну минуту Вера стала не просто чужой, а враждебной, она превратилась сразу во всех девочек, девушек и женщин, что я знала. И смотрела на меня так, как я того и заслуживаю, но не хочу признавать.
А потом я переспала с Виталиком. Ну, как переспала. «Переспала» — это такое слово, которое говорили соседки по комнате, потому что о чем-то таком им хотелось поговорить, но слово «секс» пока застревало в зубах, оно было слишком взрослое.
Я, скорее, потрахалась с Виталиком, общажным гитаристом.
Подошла к нему, когда он выходил из туалета, то есть был один, и сказала: идем в подъезд. Сказала так, что он все сразу понял. Мы зашли в лифт, доползли в нем до самого высокого этажа, под чердаком, я села на подоконник, ему пришлось согнуть колени.
Одной рукой он держался за меня, другой поддерживал сзади штаны, чтобы никто не увидел его голую жопу, если вдруг откроет дверь своей элитной квартиры. Я, как обычно, не делала ничего, поэтому мы постоянно соскальзывали с подоконника, ведь если бы я хотя бы держалась за подоконник, было бы удобнее.
После подъездного секса я взяла сумку, надела куртку и ботинки, села в метро и уехала в общагу на последнем поезде. И не было никакого молочно-шоколадного, теплого, домашнего утра.
В темной прихожей на меня бросилась шуба. Карина обожала свою шубу и не разрешала ей висеть в шкафу, чтобы она не запрела, не запахла, не была кем-то затрогана, уронена, испачкана, не была съедена молью и вообще оставалась на виду. Каждый раз, когда я заходила в комнату с выключенным светом, потому что все спали или, наоборот, где-то бродили, шуба казалась мне волосатым страшным демоном, который приехал с юга специально, чтобы сожрать меня за провинность.
Прежде чем лечь спать, я включила настольную лампу, взяла двухлитровую бутылку из-под минералки, которую разливали на моей родине и продавали в Москве, ножницы, скотч. Села за стол и вырезала не красивую и не оригинальную, а самую обычную кормушку для птиц.
Я собиралась проснуться и сразу пойти к хмурому охраннику, с которым мы вместе кормили котов. Я была уверена, что он знает, где именно голодают птицы, и подскажет мне, к какому дереву привязать кормушку.
Меня не взяли на факультатив по испанскому и никак об этом не сообщили. Двадцатого декабря москвичка из моей группы сказала, что идет на «новый год кастельяно». На праздник приглашали новеньких, чтобы те могли влиться перед началом семестра. От Саши я слышала, что в этот день на кафедре испанского разливают сангрию и что там очень весело. Саша сама учила испанский, но бросила из-за работы. А мне даже не дали такую возможность, и я не представляла почему.
Люба посоветовала узнать причину, чтобы в будущем мои заявки приводили к успеху. Но мне было