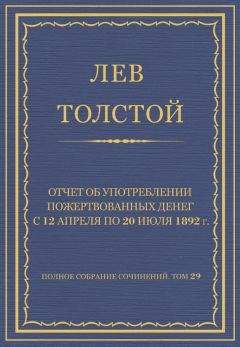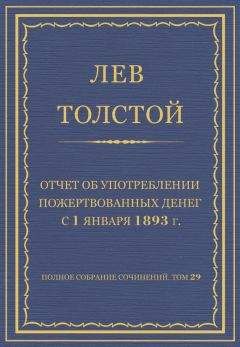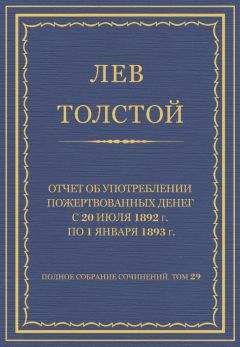Если бы кто-нибудь из городских жителей пришел в сильные морозы зимой в избу, топленную слегка только накануне, в увидал бы обитателей избы, вылезающих не с печки, а из печки, в которой они, чередуясь, проводят дни, так как это единственное средство согреться, или то, что люди сжигают крыши дворов и сени на топливо, питаются одним хлебом, испеченным из равных частей муки и последнего сорта отрубей, и что взрослые люди спорят и ссорятся о том, что отрезанный кусок хлеба не доходит до определенного веса на осьмушку фунта, или то, что люди не выходят из избы, потому что им не во что одеться и обуться, то они были бы поражены виденным. Мы же смотрим на такие явления как на самые обыкновенные. И потому на вопрос о том, в каком положении народ нашей местности, ответит скорее тот, кто приедет в наши места в первый раз, а не мы. Мы притерпелись и уже ничего не видим.
Некое понятие о состоянии народа в нашей местности можно составить себе по следующим статистическим данным, извлеченным из Тульских губернских ведомостей. В урожайные годы в 4-х уездах: Богородицком, Епифанском, Ефремовском, Новосильском, в среднем, с 1886 по 1890 г. умерло в 5 месяцев от февраля до июня включительно 9 761 человек и рождалось 12 069 челов. В неурожайном же 1892 г. в тех же уездах в те же 5 месяцев умерло 14 309 человек, а родилось 11 383 челов. В обыкновенные годы рождаемость превышала смертность в среднем на 2 308 челов., в нынешнем же неурожайном году смертность превысила рождаемость на 2 926. Так что последствием неурожая в этих 4-х уездах было уменьшение населения против обыкновенных годов на 5 234 челов. По сравнению же с другими урожайными уездами выходит следующее. В четырех урожайных уездах: Тульском, Каширском, Одоевском, Белевском в 1892 г. в продолжение тех же 5 месяцев родилось 8 268 человек, умерло же 6 468. В неурожайных же уездах родилось 11 383 чел. и умерло 14 309, так что тогда как в урожайных уездах рождаемость относится к смертности приблизительно как 4 к 3, в неурожайных уездах смертность относится к рождаемости приблизительно как 7 к 5, т. е. что тогда как в урожайных уездах на каждые 4 рождения было 3 смерти, в неурожайных уездах было на 7 смертей только 5 рождений.
В процентном же отношении положение неурожайных местностей особенно ярко выражается смертностью в июне месяце. В Епифанском уезде умерло в 1892 г. на 60%, в Богородицком на 112% и в Ефремовском на 116% более, чем в обыкновенные годы.
Таковы были последствия неурожая прошлого года, несмотря на усиленную помощь от Красного Креста и частной благотворительности. Что же будет в нынешнем году в нашей местности, где рожь родилась хуже прошлого года, овса совсем не родилось, топлива совсем нет и последние запасы сил населения вытянуты прошлым годом?
Так что же? Неужели опять голодающие? Голодающие! Столовые! Столовые. Голодающие. Ведь это уж старо и так страшно надоело.
Надоело вам, в Москве, в Петербурге, а здесь, когда они с утра до вечера стоят под окнами или в дверях, и нельзя по улице пройти, чтобы не слышать все одних и тех же фраз: «Два дня не ели, последнюю овцу проели. Что делать будем? Последний конец пришел. Помирать, значит?» и т. д., – здесь, как ни стыдно в этом признаться, это уже так наскучило, что как на врагов своих смотришь на них.
Встаю очень рано; ясное морозное утро с красным восходом; снег скрипит на ступенях, выхожу на двор, надеясь, что никого еще нет, что я успею пройтись. Но нет; только отворил дверь, уже двое стоят: один высокий широкий мужик в коротком, оборванном полушубке, в разбитых лаптях, с истощенным лицом, с сумкой через плечо (все они с истощенными лицами, так что эти лица стали специально мужицкие лица). С ним мальчик лет 14-ти, без шубы, в оборванном зипунишке, тоже в лаптях и тоже с сумой и палкой. Хочу пройти мимо, начинаются поклоны и обычные речи. Нечего делать, возвращаюсь в сени. Они всходят за мной. – Что ты? – К вашей милости. – Что? – К вашей милости. – Что нужно? – Насчет пособия. – Какого пособия? – Да насчет своей жизни! – Да что нужно? – С голоду помираем. Помогите сколько-нибудь. – Откуда? – Из Затворного. Знаю, это скопинская нищенская деревня, в которой еще мы не успели открыть столовой. Оттуда десятками ходят нищие, и я тотчас же в своем представлении причисляю этого человека к нищим профессиональным, и мне только досадно на него и досадно, что и детей они водят с собой и развращают. «Чего же ты просишь? – Да как-нибудь обдумай нас. – Да как же я обдумаю? Мы здесь не можем ничего сделать. Вот мы приедем». Но он не слушает меня. И начинаются опять сотни раз слышанные одни и те же кажущиеся мне притворными речи: «Ничего не родилось, семья 8 душ, работник я один, старуха померла, летось корову проели, на Рожество последняя лошадь околела, уж я, куда ни шло, ребята есть просят, отойти некуда, три дня не ели!» Всё это обычное одно и то же. Жду, скоро ли кончит. Но он всё говорит: «Думал, как-нибудь пробьюсь. Да выбился из сил. Век не побирался, да вот… бог привел! – Ну, хорошо, хорошо, мы приедем, тогда увидим», – говорю я и хочу пройти и взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптанный снегом дощатый пол. И милое, измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дергается всё от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца – старая, избитая канитель. А ему – это повторение той ужасной годины, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до меня, до помощи, умиляют его, потрясают его расслабленные от голода нервы. А мне всё это надоело, надоело; я думаю только, как бы поскорее пройти погулять.
Мне старо, а ему это ужасно ново.
Да, нам надоело. А им всё так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел по его прелестным, устремленным на меня, полным слез глазам, хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику.
Лев Толстой.
11-го сентября 1892 года. Бегичевка.
ОТЧЕТ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПОЖЕРТВОВАННЫХ ДЕНЕГ С 12 АПРЕЛЯ ПО 20 ИЮЛЯ 1892 г.
Весною во время пахоты крестьяне часто скармливали выдаваемую им муку лошадям и сами с семействами оставались без хлеба. Так что в особенности самые бедные (а таких большинство кормилось в столовых) предпочитали столовые с приварком и хлебом, которые обеспечивали им ежедневную достаточную пищу.
Для помощи этой мы поступали так. Приехав в ту деревню, из которой были просители, приглашали 3-х, 4-х стариков из деревни, зажиточных, и прочитывали им по списку всех тех, о нужде которых мы знали и которые обращались к нам за помощью, прося стариков определить, которые из всех более нуждающиеся. Кроме того, сами обходили нуждающихся, расспрашивали их соседей, справлялись с имущественными списками, но, несмотря на все старания, никогда нельзя было избежать упрека в несправедливости и, главное, нельзя было удовлетворить и 1/10 всей вопиющей нужды.
На этом деле мы опять с особенной ясностью увидали не только трудность, но совершенную невозможность помощи крестьянскому хозяйству.
При устройстве столовых мы ставили целью доставление пищи наиболее нуждающимся крестьянам занятой нами местности. И ведя столовые так, как мы вели их, мы смело могли сказать себе, что цель наша вполне достигалась. Предел в этом деле для нас был пространственный. Мы не шли дальше известного района, но в данном районе мы достигали поставленной себе цели и были уверены, что в захваченных нами деревнях не могло быть голодающих людей. Если и случалось, что люди, которые могли бы прокормиться дома, приходили есть в столовые, то злоупотребление это ограничивалось съеденной этими людьми пищей. Но при деле помощи крестьянскому хозяйству мы никак не могли решить, где должна ограничиться эта наша помощь. Мы даем одному крестьянину овес или картофель на семена, п[отому] ч[то] у него нет их, но почему же мы не поможем другому, кот[орый] купил овес и картофель, но продал на это последнюю корову. Почему же не помочь ему? Мы даем лошадь тому, кто проел ее, но почему же мы [не] помогаем тому, который удержал лошадь, но вошел в неоплатный долг, закабалился в работу, которую он не может выполнить, и т. п. И кроме того,1 если мы даем одному две четверти овса и другому лошадь, то нет причины, почему нам не дать третьему денег на телегу, которая у него развалилась, на корм лошади, на корову, на крышу. Во всех этих предметах тоже нужда крайняя.
Можно накормить голодающих людей известной местности. Если тут и могут быть злоупотребления, то тут есть очень близкий предел, дальше которого не могут итти ни требования людей, ни злоупотребления. Но стоит только затронуть область хозяйственную, чтобы увидать совершенную неограниченность требований в этой области и возможность злоупотреблений в ней. И покрыть только вопиющую нужду не только не достало бы всех средств, но не достало бы сотен тысяч.