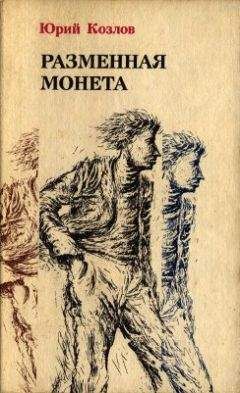Смотря на отдаленные вершины Альпов, вспомнил я Горную дорогу нашего златоуста поэта:
Четыре потока оттуда шумят —
Не зрели их выхода очи.
Стремятся они на восток, на закат,
Стремятся к полудню, к полночи;
Рождаются вместе, родясь, расстаются,
Бегут без возврата и ввек не сольются.
— И ввек не сольются! — долго повторял я. Неприступные скалы, окруженные садами и увенчанные развалинами древних рыцарских замков, как лики Дианы Ефесской, отвлекали душу мою от одной печальной мысли к другой. Теперь и прежде! Теперь тело развязно, свободно, а дух в оковах; прежде — тело было оковано в латы, а дух был свободен; легко дышалось на неприступных верхах гор и скал, над волнами, над пропастями, посреди лесов и виноградников, за гранитными бойницами, за подъемными мостами, под сводами великолепных добровольных темниц, посреди таинственности и чудес предрассудка, неразлучно с мечом, вином, любовью и неутомимою жаждою к славе. Минстрель1 пел сирвентес-римот:
Кто мне внушит благозвучную песнь,
Кто воскресит, оживит мою память
И свиток прошедшего в ней разовьет?
Кто расцветит мои мрачные мысли
И дивные звуки из струн воззовет,
Как голос от сна восстающей природы?
Ах! есть на земле, есть одно существо!
Его светлый взор, как небесное солнце,
Туманы и мрак с отдаленья сорвет
И свиток времен предо мной разовьет!
На берегу быстрого Неккара, впадающего в Рейн, посреди садов, мне слышалась эта песнь минстреля.[2] Я смотрел на заросшую дорогу, которая извивалась к величественным стенам замка… и забывался…
Вот… рыцари стекаются со всех сторон… знамена их плещут в воздухе; оруженосцы отягчены щитами, раскрашенными девизами чести, любви и славы; на оружие сыплются лучи солнца, дробятся радужными цветами… Кривой рог зазвучал… На вестовой башне с развевающимся флагом в облаках приветливо отвечают гостям теми же звуками; цепи подъемного моста загремели, кольцы железных ворот брякнули, скрипнули засовы и вереи… Герольды повещают приезжих… Гордые кони стучат тяжкими копытами по дубовому помосту… Пажи сбегают с крыльца встречать гостей…
На пространном дворе устроены павильоны вокруг поприща; драгоценные восточные ковры свесились через перилы… Судейская ложа украшена оружием, гербами, девизами, и знамена плещут над нею…
Судьи-джюджедуры заняли места. Серебряные власы их рассыпаются по пурпурным мантиям юношескими кудрями… Речи старцев звучны, как кованое оружие во время боя, важны, как голос вопрошаемого оракула…
И вот… она… божество, венчающее победу… появилась, как солнце посреди алмазных, изумрудных, яхонтовых лучей… Трубы грянули, герольды засуетились, рядят чин всему, оглашают законы поединков: "Любовь красоте, слава мужеству, хвала победителям! Настал час храбрых; оружие их омоется потом и кровью!"
Герольд умолк, подал знак; раздался хор минстрелей, сопровождаемый цитрами, бандурами и кастаньетами югларов:
Рыцари! вскиньте взоры на ограду,
Где восседает джюджедуров ряд,
Где дамы сердца мужеству в награду
Бантами чести грудь приосенят!
В ком изнеможет в бою дух врожденный,
Сердце остынет, сила изменит,
Взгляд животворный девы несравненной
Душу пробудит, сердце воскресит!
Новый звук труб. Начинается поле.
Ряды рыцарей в роскошных бронях, сопровождаемые щитоносцами, приближаются к рогатке на конях, покрытых латами; едут медленно, с важностию; забралы опущены. Подле них, на парадных конях, едут дамы сердца; они ведут горделивых своих невольников на цепочках, свитых из лент и цветов. Проехав барьер, они развязывают оковы кавалерам сердец своих и потом продолжают путь к помостам, разбрасывая по поприщу цветы, шарфы, узлы из лент, браслеты, сплетенные из собственных их волос, перья с головы… Рыцари подбирают дары с земли, осыпают их поцелуями и готовятся заслужить оружием звания рыцаря сердца, шарф и девиз своей дамы.
Рыцари становятся строем на двух оконечностях поприща, ждут сигнала, прислушиваются к словам джюджедура, который повторяет закон турнира: "Рыцари! да не поранит никто из вас коня противника своего; мета копью — лицо и грудь; меч рубит, но не колет. Поднятому или разбитому забралу — пощада!»
Джюджедур ударил три раза в ладоши; сигнал к общему бою раздался. Пришпоренные кони ринулись с мест, земля дрогнула; два строя всадников, приклонив голову, уставив копья вперед, налетели друг на друга… Казалось, что посреди поприща разразилась громовая туча, рассыпалась искрами и треском; взвилась пыль… Две противные стороны то столкнутся, то расступятся. Но общий бой прерван сигналом — строи разъезжаются. Теперь один на один — по вызову. Вскипела во мне жажда победы… Я пришпорил коня, перелетел через ограду… Кто на меня? Вызываю! Нет создания в природе лучше Елены! Пой, минстрель! славь Елену!
Минстрель запел лей Елене, вместо вызова:
Кто в истомлении, в восторге сердца,
Елены не видав, осмелится промолвить,
Что видел божество любви и красоты,
Кисть хмеля принял тот за грозд пурпурный
И хладную луну за пламенное солнце.
Слепец! я исцелю тебя от слепоты!
Неизвестный рыцарь, в черной броне, без гербов, без шарфа дамы сердца и девиза, выехал на средину поприща… Это противник, соперник мой — суженый Елены!
Злобно взглянул он на меня, я на него; разъехались, повернули — сигнал подан… Вот он! Брызнули искры из стальной брони… А! вон он! Подо мной суженый Елены! Моли о пощаде!..
"Коня убил! Преступник закона!" — раздалось вокруг… Стрелы со всех сторон готовы были поразить меня, но знамя пощады распростерлось надо мною, и герольд повестил, что конь противника моего убит по неосторожности.
Меня ведут к венчающей победу… это Елена!.. Я преклонил колено… Громкий хор запел славу, а Елена увенчала меня… подала руку, и мы пошли, сопровождаемые хором, джюджедурами и рыцарями. В пространной зале сели мы за круглый стол. Передо мной поставили жареного павлина, которого, по обычаю, победитель должен был распластать на сто частей; потом поднесли огромный бокал векового Гейдельберга. Я поднял бокал… "За здравие Елены!" — хотел сказать я… Где ж она? Нет ее? О, на сто частей разорвалось мое сердце, когда я взглянул вокруг себя… Мрачный замок Гейдельберг, разгромленный самим небом, воздымался на горе, как на острове, посреди моря тумана. По чешуйчатому небу разливался свет луны. Я лежал под деревом на берегу Неккара, смоченный холодной росою ночи…
Я приехал в Эмс, начал курс лечения. Вдруг письмо… Рука Мемнона! И только две строчки — только, но сколько блаженства почерпнул я в них! Как, они были красноречивы! как исполнены дружбы! "Приезжай, — писал он, — Елена будет твоею; все препятствия устранены".
Можно представить себе, с каким нетерпением желал я лететь в Россию, но, предполагая ехать обратно, по обещанию брату, через Бессарабию, где он в то время находился, я не мог переменить намерения и, сверх того, я хотел видеть Дунай и взглянуть на Букарест, где был с отцом своим во время войны в 1810 году. Кажется, сама судьба влекла меня по этому пути, чтобы развязать повесть моей жизни.
Из Эмса приехал я в Вену, потом в Буду и оттуда на небольшом купеческом судне, отправлявшемся в Галац, решился пуститься по Дунаю.
Нисколько не заботясь о современных политических обстоятельствах, я совершенно не знал, что делается на берегах Дуная. Я думал только об Елене. Наслаждаясь природой, слушал по вечерам заунывную песню матроса и, проехав таким образом до Галаца, я был бы принужден сделать около четырехсот верст лишних, чтобы попасть в Букарест. К счастию, хозяин корабля спросил меня, куда я еду, и сказал, что я могу выйти на берег при Журжинской переправе и проехать в Букарест прямым путем. Это был подарок для рассеянного. На лодке переехал я в Слободзею и там, наняв почту, отправился в столицу Валахии. Никто не спрашивал меня, кто я, откуда, куда еду и есть ли у меня какой-нибудь вид.
Подъезжая к Букаресту вечером, вдруг увидели мы на самой дороге, сквозь деревья, разложенный огонь и вокруг него толпу людей. Шум и песни раздавались по лесу.
Суруджи[3] приостановил лошадей, со страхом произнес:
— Чи есть?[4]
— Это, верно, табор цыганский?
— Нуй, нуй, боерь![5] — повторял он, продолжая медленно подвигаться вперед.
Едва проехали мы заворот дороги, толпа вполне открылась перед нами. Над огнем, на козлах, висел котелок, а вокруг него лежали и ходили вооруженные люди в мантах, в скуфьях, в кушмах, в чалмах, в албанской одежде. Страшные, смуглые лица их с отвислыми усами казались от блеска огня раскаленными.