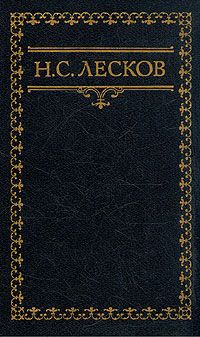Там его тоже знали и встретили с таким же почетом, как у «Яра».
– Хочу пасть перед Всепетой и о грехах поплакать. А это, рекомендую, мой племяш, сестры сын.
– Пожалуйте, – говорят инокини, – пожалуйте, от кого же Всепетой, как не от вас, и покаянье принять, – всегда ее обители благодели. Теперь к ней самое расположение… всенощная.
– Пусть кончится, – я люблю без людей, и чтоб мне благодатный сумрак сделать.
Ему сделали сумрак; погасили все, кроме одной или двух лампад и большой глубокой лампады с зеленым стаканом перед самою Всепетою.
Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом об пол ниц, всхлипнул и точно замер.
Я и две инокини сели в темном углу за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежал, не подавая ни гласа, ни послушания. Мне казалось, что он будто уснул, и я даже сообщил об этом монахиням. Опытная сестра подумала, покачала головою и, возжегши тоненькую свечечку, зажала ее в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочках, она возмутилась и шепнула:
– Действует… и с оборотом.
– Почему вы замечаете?
Она пригнулась, дав знак и мне сделать то же, и сказала:
– Смотри прямо через огонек, где его ножки.
– Вижу.
– Смотрите, какое борение!
Всматриваюсь и действительно замечаю какое-то движение: дядя благоговейно лежит в молитвенном положении, а в ногах у него словно два кота дерутся – то один, то другой друг друга борют, и так частенько, так и прыгают.
– Матушка, – говорю, – откуда же эти коты?
– Это, – отвечает, – вам только показываются коты, а это не коты, а искушение: видите, он духом к небу горит, а ножками-то еще к аду перебирает.
Вижу, что и действительно это дядя ножками вчерашнего трепака доплясывает, но точно ли он и духом теперь к небу горит?
А он, словно в ответ на это, вдруг как вздохнет да как крикнет:
– Не поднимусь, пока не простишь меня! Ты бо один свят, а мы все черти окаянные! – и зарыдал.
Да ведь-таки так зарыдал, что все мы трое с ним навзрыд плакать начали: Господи, сотвори ему по его молению.
И не заметили, как он уже стоит рядом с нами и тихим, благочестивым голосом говорит мне:
– Пойдем – справимся.
Монахини спрашивают:
– Сподобились ли, батюшка, отблеск видеть?
– Нет, – отвечает, – отблеска не сподобился, а вот… этак вот было.
Он сжал кулак и поднял, как поднимают за вихор мальчишек.
– Подняло?
– Да.
Монахини стали креститься, и я тоже, а дядя пояснил:
– Теперь мне, – говорит, – прощено! Прямо с самого сверху, из-под кумпола, разверстой десницей сжало мне все власы вкупе и прямо на ноги поставило…
И вот он не отвержен и счастлив; он щедро одарил обитель, где вымолил себе это чудо, и опять почувствовал «жисть», и послал моей матери всю ее приданую долю, а меня ввел в добрую веру народную.
С этих пор я вкус народный познал в падении и в восстании… Это вот и называется чертогон, «иже беса чужеумия испраздняет». Только сподобиться этого, повторяю, можно в одной Москве, и то при особом счастии или при большой протекции от самых степенных старцев.
1879 г.
Меню – Франц.