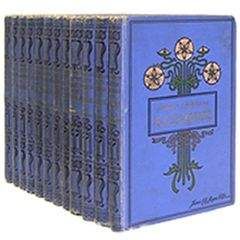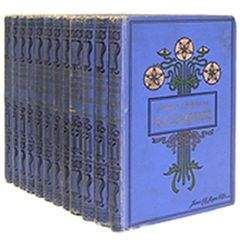Среди года в университете разыгралась история, одна из тех, какие в то время бывали не в редкость. Молодой учёный, только что защитивший диссертацию, занял кафедру. Но диссертация оказалась на половину списанной с какого-то иностранного источника. Кто-то разоблачил, студенты оскорбились и, явившись однажды на лекцию, подняли шум, шиканье и свист. Присоединились другие факультеты, и разыгралось то, что называлось историей.
Аудитории опустели, студенты сходились в коридорах, во дворе, в частных квартирах. Ораторы взлезали на стулья и столы и держали горячие речи.
И вот на одной из сходок произошёл эпизод. Я присутствовал в толпе и видел, как вошёл Литвицкий. Он был взволнован. Вообще к студенческим делам он относился равнодушно. Но эта история, как я узнал от него ещё накануне, близко затронула его потому, что профессор был историк. Литвицкий держался такого же мнения, как и все студенты, и считал, что человек, способный выдавать чужие исследования за свои, не может быть терпим на кафедре. Это было его убеждение, которое он высказал мне, как другу.
В это время на возвышенном месте стоял какой-то студент с растрепавшейся шевелюрой и говорил страстную речь. Вдруг до слуха моего долетело:
— Тш… шш… Господа, будьте осторожны, будьте осторожны.
Все начали осматриваться. А речь оратора стала прерываться.
— Будьте осторожны!.. — повторяли голоса, — здесь шпион…
У меня стиснуло сердце… Произошло что-то невероятное, чего я беспричинно и бессознательно боялся. Все, точно сговорившись, стеснились, подались к стенам, место посредине комнаты освободилось, и там стоял один Литвицкий. Положение сразу выяснилось для всех, и, конечно, для него стало ясно, к кому относились эти предостережения.
Он смотрел на всех какими-то безумными глазами; голова его тряслась и плечи его вздрагивали, как тогда, в тот вечер, когда я с ним объяснился. Оратор уже сошёл с своего места, и ни чей голос более не раздавался.
Вдруг Литвицкий одним прыжком очутился на возвышении, и оттуда послышались слова, — странные слова, нисколько не относившиеся к предмету, который всех волновал.
— Здесь раздалось слово «шпион»… я знаю, к кому это относится… Это вопрос чести… Понимаете ли вы, что такое вопрос честь? Я требую оснований… Наконец, я требую этого… Пусть сказавшие это слово выйдут на средину и повторят его громко, пусть они приведут доказательства. Я предоставляю им рыться в моей душе, перебрать всю мою жизнь… В противном случае я буду иметь право сказать, громко сказать, на весь мир крикнуть, что вы, все вы, здесь присутствующие, — бесчестные люди!
Послышался шум, галдение и свист. А с возвышенного места продолжали раздаваться слова:
— Шум и свист ничего не доказывают! Итак, никто не хочет сказать открыто, никто не может доказать гнусную клевету, которая преследует меня вот уже четыре года! Никто! Я жду… Значит, никто? — кричал Литвицкий, и его обыкновенно слабый голос звучал теперь, как гром. — Так я объявляю… объявляю, что все вы бесчестные люди… вы… вы… негодяи…
Последнее слово оборвалось на половине, и Литвицкий грохнулся на пол.
Всё смолкло. Литвицкий был без чувств. Его вынесли на руках. Я и ещё один товарищ уложили его в извозчичий экипаж и довезли до дому.
На другой день у него появился жар и бред; у него сделалась горячка.
Для меня это были тяжёлые дни. Я был единственный человек, близко знавший Литвицкого, которого и он поэтому признавал. И мне пришлось всё время быть при нём.
Был день, когда казалось, что слабый организм не перенесёт болезни; я потерял голову и послал телеграмму его отцу. Дня через четыре приехал старик.
В первую минуту, когда я его увидел, я был поражён совершенно необыкновенным сходством. Бывают сходства в чертах лица, в некоторых привычках и манерах, словом то, что называется фамильным сходством, но тут было почти тожество, до малейших мелочей. Старик Литвицкий послужил для меня ключом для уразумения странной внешности товарища. Он точно так же брил лицо, так же причёсывал голову, носил такой же длинный сюртук, который всегда застёгивал на все пуговицы, и такой же у него был мягкий и тихий голос и спокойный, проницательный взгляд. И другие товарищи видели этого старика и понимали, откуда Литвицкий перенял свою внешность и свои манеры.
Когда старик приехал, Литвицкому уже стало лучше. Он как-то чрезвычайно быстро начал оправляться.
Странное дело! Я заметил, что среди студентов началось решительное движение в сторону Литвицкого. Человек, прожив среди товарищей четыре года тихо, незаметно, ни разу не возвысив голоса, не мог вызвать в них ничего, кроме пренебрежения. Но вот он не выдержал, его прорвало, он вступился за себя, предъявил свои права на уважение, предъявил в резкой форме, бросил всем вызов, оскорбил всех, и люди вдруг почувствовали, что это сила… И стали уважать его.
Во время его болезни студенты справлялись у меня о здоровье Литвицкого. Некоторые заходили даже к нему на квартиру. Было ясно, что четырёхлетняя ошибка всеми была сознана, и товарищи, может быть, раскаялись в ней.
Как только Литвицкий стал поправляться, я рассказал ему об этом. Он покачал головой и промолвил:
— Не надо. Я этого вовсе не добивался. Они доказали мне достаточно, что уважать их не стоит… Я их не уважаю…
Он поднялся с постели, когда уже приближалась весна; история с профессором давно была кончена. Студенты были побеждены.
Литвицкий появился в университете за неделю перед тем, как должны были прекратиться лекции. Встречая его, товарищи останавливались и здоровались с ним. Он мог убедиться, что теперь все смотрели на него другими глазами. но сам он торопился отвечать на поклоны и спешил пройти мимо.
Скоро он углубился в лекции, деятельно готовясь к экзаменам. Ему надо было наверстать много пропущенного во время болезни. Его редко видели на улице. Я заходил к нему часто, и он всегда горячо жал мне руку и был рад мне. Я понимал это чувство. Я был единственный человек, который не оскорбил его подозрением.
Болезнь не помешала ему выдержать экзамен с блеском. Как и следовало ожидать, ему предложили остаться при университете для дальнейшего усовершенствования в науке. Но он отказался.
Я спросил его:
— Почему вы отказались, Литвицкий? Мне казалось, что вы имели это в виду…
Он ответил:
— Я хочу уйти подальше от всего, что напоминает товарищество. Они принесли мне слишком много вреда. Те годы, которые для всех других бывают лучшими годами жизни, благодаря им, для меня сделались самыми мрачными. Мне нанесли рану, которая никогда не заживёт.
Он уехал в свой уезд и там поступил на службу. Он никогда не примирился с товарищами.
1899