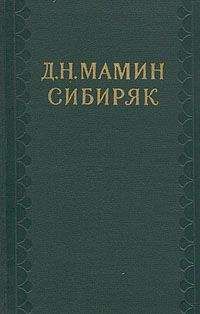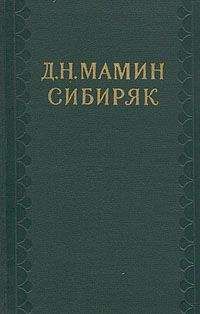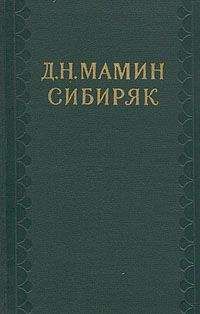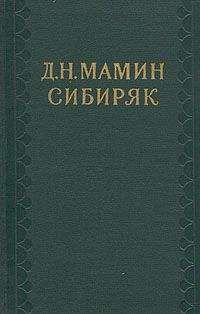Нужно отдать справедливость Аполлону, что он не только не злоупотреблял своим исключительным положением, но платил большой любовью своей семье и с каждым годом делался тем, что желала в нем видеть мать (отец на все смотрел ее глазами); точно он отливался по ее рецепту: гордый, расчетливый, аккуратный, бережливый, считавший себя и свою семью выше всего на свете; отцу больше всего нравились в Аполлоне его физическая сила и прямота характера; сестрам — то, что он молодой человек, который хотя и обращался с ними свысока, но все-таки молодой человек, которым интересовались все заводские барышни.
Приезд Аполлона на вакации был для нас задолго предметом самых оживленных разговоров; последние дни ожидания были просто тяжелы от чересчур сильного нервного напряжения; Аполлон являлся всегда такой свежий и довольный и всегда привозил что-нибудь в подарок мне и сестрам. Это, кажется, были единственные подарки, какие мне случалось получать в детстве, и воспоминание о них для меня неразрывно связано с приездом Аполлона. Бывало, с таким нетерпением юлишь около Аполлона, пока он здоровается со всеми, отвечает на вопросы отца и матери, но, наконец, эта скучная церемония кончается, Аполлон медленно запускает руку в карман голубого жилета, вынимает оттуда ключ и отворяет кожаный чемодан — тоже воспоминание о Махнёвском заводе. Как было все аккуратно уложено в этом чемодане, — кажется, не описать никаким пером: белье, книги, папиросы, разные безделушки точно так и родились вместе с чемоданом, по крайней мере я никогда не мог достигнуть такого искусства укладывать свои вещи в этот же самый фамильный чемодан, когда мне пришлось ездить с ним в училище. Грошовые подарки, которые привозил нам Аполлон, были так хороши, что я даже теперь, по прошествии долгих-долгих лет, испытываю чувство невольного волнения при одном воспоминании о них; я уверен, что никакие елки богатых детей не доставят такого удовольствия, какое мне доставлял чемодан Аполлона, окруженный самой таинственной неизвестностью и всегда оправдывавший мои ожидания самым блестящим образом, потому что достаточно было уже одного того, что эти подарки привозил Аполлон.
Словом, Аполлон был для нас некоторым домашним божком, который все делал и говорил самым отличным образом, но у этого божка был один крупный недостаток — очень плохая память, так что, несмотря на все его усердие и самое отчаянное прилежание, он вместо двух лет сидел по четыре года в классе;[2] отец и мать смотрели на это довольно снисходительно, потому что Аполлон просто из кожи лез, чтобы учиться наравне с другими, и занимался с редким прилежанием даже во время каникул.
— Не лопнуть же ему в самом деле, — утешал себя отец. — Только я, бывало, всегда первым в классе сидел: загляну в книжку, прочитаю два раза, и кончен бал. Может, нынче труднее учиться стало, или учителя строгие; а как ты, Паша, думаешь, — не подводит ли Аполлошу тот?
Этот намек на консисторского секретаря казался матери совсем неосновательным, и она старалась успокоить отца чем-нибудь другим, рассказывала приличный случаю пример, как у какого-нибудь священника сын в младших классах шел плохо, а в семинарии кончил студентом. Отец успокаивался и, вздохнув всей своей могучей грудью, прибавлял: «Претерпевый до конца — той спасен будет».
В каждый такой приезд Аполлона на каникулы, после первых приветствий, отец всегда спрашивал брата:
— А что отец Марк?
— Ничего; кланяется вам, папа.
— Еще пуще разбогател?
— У него, папа, двадцать лошадей, да хлеба лежит в амбарах по три тысячи пудов.
— Что же, большому кораблю большое плавание, а мы поближе к берегу, — с подавленным вздохом говорил каждый раз отец и обыкновенно прибавлял: — Только я так думаю: конечно, я получаю мало в Таракановке, а зато я не пойду кланяться каждому мужику, не буду клянчить сметану да масло… А все-таки отлично устроился отец Марк. Три тысячи пудов хлеба — это не баранья кожа!
— Дочери-то у отца Марка большие? — спросила мать.
— Большие, — коротко отвечал Аполлон.
— Отлично, поди, одеваются?
— Да, ничего.
— Ведь вот, подумаешь, какая, видно, кому судьба, — говорил отец: — вместе на одной парте сидели: я, Марк да Амфилошка… Мы Марка больше Маркушкой звали, и учился он так себе, середка на половине, а теперь… три тысячи пудов, а?.. А все-таки я не завидую отцу Марку, потому я получаю жалованье от заводоуправления и знать ничего не хочу… Отлично Маркушка устроился!
Наш домик выходил на небольшую четырехугольную площадь, упиравшуюся в заводской пруд; на берегу пруда стояла небольшая деревянная церковь, очень ветхая и когда-то очень давно выкрашенная сиреневой краской. Направо от церкви тянулась заводская плотина, под ней чернела фабрика, а за прудом белел каменный господский домик, в котором жил заводский управитель, француз Кабо; налево от церкви стояло несколько деревянных лавчонок, и сейчас за ними, на небольшом возвышении, красовалось «Пеньковское волостное правление» — большой новый пятистенный деревянный дом с ярко-зелеными ставнями. Завод Таракановка заброшен в самую глубь Уральских гор; расположен он на месте слияния трех небольших горных речек, из которых река Таракановка была самая большая и образовала небольшой заводский пруд, со всех сторон обложенный пестрой рамой заводских домиков. Если смотреть на Таракановку с высоты птичьего полета, она представлялась глубокой горной котловиной, окруженной со всех сторон невысокими лесистыми горками; люди заезжие находили ее очень некрасивым заводом и даже называли вороньим гнездом, но я никогда не мог объяснить себе подобного заблуждения и всегда считал Таракановку самым живописнейшим местом на свете. Самое замечательное в Таракановке было то, что во всем заводе не было ни одной точки, с которой не было бы видно леса и недалеких гор; крайние домики стояли наполовину в лесу или отделялись от него небольшими «кулигами», так что, куда ни посмотри — везде лес, настоящий сибирский лес, полный для меня неизъяснимой прелести.
Основан Таракановский завод очень давно, лет полтораста назад, на месте небольшого раскольничьего поселка; раскольники, беглые из Сибири и разный иной сброд давно оценили р. Таракановку с ее дремучими лесами и свили здесь теплое гнездо; но один из русских промышленников «приглядел» это местечко под завод, выпросил его себе у правительства и выстроил фабрику. Первый владелец Таракановки, какой-то Коробейников, основал еще несколько заводов на Урале, а затем умер; его наследники поделили заводы между собой, и в конце концов Таракановка очутилась во владении графини X. Сама графиня никогда не бывала на своем заводе, все дело вершили разные управители, управляющие и доверенные; последний из них, француз Кабо, пользовался плохой популярностью и больше всего заботился только о дивидендах своей доверительницы. Рабочие называли его «наш Кобель»; мой отец отзывался о нем с величайшим презрением, во-первых, потому, что Кабо был католик и никогда не ходил в церковь, а во-вторых, потому, что и «имя у него было собачье»; вообще Кабо принадлежал, по терминологии моего отца, к тому разряду людей, который был помещен под рубрикой: «чужая ужна».
— Приехал, нажил денег и уехал, — говорил отец: — такое ему и имя: чужая ужна и есть!.. И живет, яко пес: постов не соблюдает, жрет зайцев, голубей, воробьев…
Жителей в Таракановке было до полутора тысяч, это были большею частью закоснелые раскольники, «кержаки», как называл их отец; в окрестных лесах, особенно в верховьях речки Таракановки, было несколько раскольничьих скитов, где самым мирным образом проживали разные старцы и старицы. Отец не умел ладить с своей паствой, постоянно горячился в спорах и, наконец, махнул на непокорных овец рукой; кержаки относились к нему индифферентно и только изредка ради шутки косвенным образом давали заметить свое озлобление, отпуская выражения вроде того, что «вес не попова душа», и т. п.
Ядро таракановской аристократии составляли две фамилии заводских служащих: Сермягины и Портнягины; из представителей этих двух фамилий составился весь контингент заводских служащих: тут были и повытчики, и запасчики, и расходчики, и надзиратели, и дозорные — словом, как говорил отец, всякого жита по лопате. Замечательнее всего было то, что эти две фамилии страшно враждовали между собой, и эта фамильная вражда переходила из рода в род, так что происходило нечто вроде войны гвельфов и гибеллинов: то повышались Сермягины и падали Портнягины, то начинали забирать силу Портнягины, а Сермягины «захудали» и клонились к упадку. Только два человека из этих семей представляли собой исключение: Иван Меркулыч Сермягин и Январь Якимыч Портнягин — они не только не враждовали, а жили душа в душу; Иван Меркулыч, или попросту Меркулыч, занимал должность волостного писаря. Январь Якимыч «состоял на обязанности лекарского ученика», как он выражался. Обыкновенно Января Якимыча звали Январем или просто «учеником», но это не мешало ему быть замечательным человеком во многих отношениях, начиная с его наружности: маленький, сухонький, с маленькой седой головкой и какими-то забавными пукольками на висках, он резко отличался от всех остальных обитателей Таракановки, а для меня лично на «ученике» лежала видимая печать того замечательного обстоятельства, что Январь Якимыч, после Кабо, был единственный человек на заводе, который «был даже в Москве». Для меня последние слова имели магическое действие, я всегда смотрел на Января, как на выходца с того света; даже отец, и тот, хлопнув своей могучей рукой «ученика» по плечу, не раз говаривал: «Ведь смотреть, братец, не на кого, а был в Москве… а?»