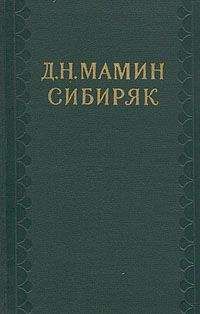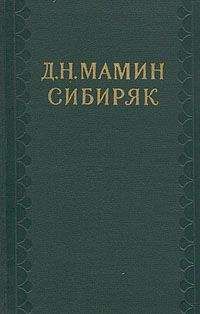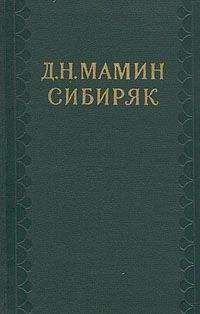«Надо избыть Урмугуза, а потом я женюсь на Макен, когда она останется вдовой, — подумал Баймаган. — Гольдзейн пусть служит ей, как раба…»
VIIIУрмугуза не стало. Много так пропадает в степи. Чужие люди обвиняли Баймагана, что он подослал убийц к своему работнику, а сам женился на его вдове.
А Баймаган ничего не хочет знать, что говорят про него люди. Он по целым дням лежит на ковре вместе с Макен, а Гольдзейн прислуживает им, старая некрасивая Гольдзейн. Но Макен такая печальная, и Баймагана тянет выйти из коша; рядом в коше старого Хайбибулы каждый раз на шум его шагов отодвигается край ковра, которым прикрыт вход, и оттуда смотрят прямо в душу Баймагана два темных глаза, а из-за белых зубов сыплется беззаботный детский смех. Это молодая Аяш смотрит на Баймагана, и у него темнеет в глазах.
«Обманул меня Хайбибула, — думает он. — Макен все думает о своем Урмугузе… Ей скучно со мной».
Не спится по ночам Баймагану, а вместе с ночным холодом ползет к нему в кош ласковый девичий шепот, — о, он знает этот голос, который хватает его прямо за сердце! Нужно было отправить на тот свет не Урмугуза, а старую лисицу Хайбибулу: Будет ему грешить, а Аяш еще молода.
Темнее ночи ходит Баймаган и все думает о старике Хайбибуле, — может быть, старая лисица сам догадается умереть.
Отточил острый нож Баймаган и ночью, как змея, заполз с ним в кош Хайбибулы. Вот уж он слышит ровное дыхание спящей Аяш, а рядом с ней на постели, под шелковым бухарским одеялом, храпит Хайбибула. Баймаган подполз к изголовью и замахнулся, чтобы ударить Хайбибулу прямо в сердце, — он пригляделся к темноте и теперь хорошо различал спавших, — но, заглянув в лицо старику, Баймаган остолбенел: это лицо смеялось своим беззубым ртом, а старческие слезившиеся глаза смотрели на него в упор.
— Ну, чего ты испугался?.. — шепчет Хайбибула, а сам все смеется и смотрит на него. — Делай то, за чем пришел…
Страшная ярость закипела в груди Баймагана, хочет он поднять руку с ножом, но у него нет больше силы, — рука висит, как плеть.
— Убил Урмугуза, убивай и меня, — шепчет Хайбибула. — Аяш моложе твоих жен… Ты умный человек, Баймаган. Ха-ха-ха…
Эти слова ударили Баймагана прямо в голову, и он почувствовал, как на его голове открываются старые раны от лошадиных копыт и как он сам начинает весь леденеть. Жизнь быстро выходит из него вместе с горячей кровью, а старый Хайбибула делался все дальше и дальше, и только далеко-далеко, точно из-под земли, доносился его страшный дребезжащий смех и тот же шепот:
— О, ты умный человек, Баймаган!..
Баймаган крикнул, объятый ужасом, и сам испугался своего голоса, точно это кричал не он, а какой-то другой голос.
— Тише, тише… не шевелись, Баймаган, — шептал над ним голос старой Ужины, чьи-то руки удерживали его голову.
IX— Так это был сон?.. — спрашивал Баймаган, когда пришел в себя и увидел, что по-прежнему лежит в своем дырявом коше, а около него сидит старая Ужина и уговаривает его, как ребенка.
— Ты сорвал повязки с головы и чуть не истек кровью… — шептала ласково старуха. — Отчего ты так страшно крикнул?..
— Не спрашивай… после расскажу. Я дурной человек… я хуже всех других, Ужина.
Баймаган поправился, но сделался таким задумчивым и печальным, что никто не узнавал в нем прежнего молодца.
— О чем ты думаешь, Баймаган? — спрашивала его Макен.
— Дорогая Макен, прежде я думал всегда о себе, — отвечал ей Баймаган, — думал, как бы мне устроиться лучше других. А теперь мне жаль всех людей, потому что я все вижу и все понимаю… Да, понимаю все и понимаю то великое зло, какое сидит в каждом человеке и обманывает всех. Мне иногда делается страшно за то зло, которое и в нас и вокруг нас. Я был глуп и ничего не понимал, но за одно доброе слово, которое я сказал несчастной старухе, аллах показал мне мою собственную душу.
Через год Баймаган женился на Макен.
I— Где хаким[4] Бай-Сугды? Где лебедь Хантыгая? — спрашивал Бурун-хан своих придворных. — Отчего мои глаза не видят славу и гордость моего государства? Где он, слеза радости, улыбка утешения, свет совести, — где хаким Бай-Сугды, лебедь Хантыгая?
Мурзы, беки, шейхи, тайши и князьки, присутствовавшие в палатке Бурун-хана, опустили головы и не смели взглянуть на своего повелителя, точно они все чувствовали себя виноватыми. В сущности, они просто боялись огорчить Бурун-хана печальным известием и вызвать его неудовольствие.
— Отчего вы все молчите? — спрашивал Бурун-хан, грозно сдвигая седые брови. — Отчего никто из вас не хочет сказать правды?.. Впрочем, это смешно — требовать правды от людей, которые хотят заменить мне и мои глаза, и мои уши, и мои руки, чтобы лучше пользоваться моей слепотой, глухотой и бездеятельностью… Один хаким Бай-Сугды говорил мне правду, а я не вижу его.
Еще ниже наклонились старые и молодые головы мурз, беков, тайшей и князьков, и опять никто не посмел проронить ни одного слова. Тогда смело выступила вперед красавица Джет, любимая дочь Бурун-хана, и, преклонив одно колено, сказала:
— Отец мой, прости мне мою смелость, что я решилась сказать тебе то, о чем молчат другие.
Седые ханские брови распрямились, морщины на ханском лбу исчезли, грозные ханские глаза глянули весело: разве найдется такой человек, который может рассердиться на красавицу Джет?
— Говори, Джет, моя газель.
— Отец, хаким Бай-Сугды уже давно совсем изменился, так что ты его не узнаешь… Он больше уже не складывает своих чудных песен, которые распевает весь Хантыгай. Да… Хаким Бай-Сугды заперся в своей палатке и никуда не выходит. Вот уже полгода, как он заскучал, а его жены проплакали сбои глаза… Кто-то попортил солнце Хантыгая, и оно скрылось за тучу.
Хан опять нахмурился и велел привести хакима Бай-Сугды, а красавица Джет поместилась за шелковой занавеской. Когда старый хаким, с длинной седой бородой, вошел в палатку, девушка тихо заиграла на золотой арфе и запела самую лучшую песню, какую только когда-нибудь сложил Бай-Сугды:
Алой розой смех твой заперт,
Соловьиной песни трепет
На груди твоей таится…
Никто в целом Хантыгае не умел петь лучше Джет, и все лица повеселели, а Бурун-хан посмотрел на хакима с улыбкой. Улыбнулись и мурзы, и беки, и шейхи, и тайши, и князьки, как живое зеркало Бурун-хана. Один хаким Бай-Сугды стоял перед ханом, опустив глаза, и на седых ресницах у него повисли слезы.
— Хаким Бай-Сугды, лебедь Хантыгая, что сделалось с тобой? — спросил Бурун-хан. — Никто тебя не видит… Может быть, у тебя есть какое-нибудь горе? Может быть, износилось твое платье? Может быть, твои стада постигло несчастье? Может быть, наконец, ты недоволен мной?..
Поднял голову хаким Бай-Сугды и сказал:
— Всем я доволен, Бурун-хан, и все у меня есть, даже больше, чем нужно одному человеку… Я, как пылинка в солнечном луче, купаюсь в твоей милости.
— Может быть, похолодело твое сердце, хаким Бай-Сугды, и нужна новая пара газельих глаз, чтобы воскресить в нем молодую радость?..
— О, Бурун-хан, у меня семь жен, семь красавиц, и мне достаточно молодых радостей, — с горькой усмешкой ответил седой хаким.
— Что же тебе нужно, Бай-Сугды? Проси все — и я все сделаю для тебя… Ты выше меня, потому что я сейчас хан, а завтра меня съедят черви, а ты умрешь — после тебя останутся живые чудные песни… Ханов много, а хаким Бай-Сугды — один.
— Бурун-хан, у меня есть к тебе просьба: пусть красавица Джет не поет больше моих песен… И пусть другие девушки их позабудут. Когда птица поет беззаботно, сидя на ветке, она не предчувствует близкой беды, не видит беды, не видит коршуна, который ее схватит. Моя зима пришла, а мой коршун уже летает над моей головой, и я чувствую, как веют его крылья…
— Неужели ты, мудрейший из людей, испугался смерти?
— Нет, хан, не смерти я боюсь, а того, зачем я жил так долго… Мое сладкое безумство пело песни, а ненасытное сердце искало новых радостей. Но теперь нет больше песен… Давно углубился я в ученые книги, в это море мудрости, и чем дальше углубляюсь в них, тем сильнее чувствую, сколько зла я наделал своими песнями. Я обманывал их сладким голосом и молодых и старых людей, я сулил им никогда не существовавшие радости, я усыплял душу запахом роз, а вся наша жизнь только колеблющаяся тень промелькнувшей в воздухе птицы… Горя, несчастий, нужды и болезней целые моря, а я утешал и себя и других одной каплей сладкой отравы. Мои песни теперь нагоняют на меня тоску. Бурун-хан, чем больше я читаю мудрые книги, тем сильнее вижу собственное безумство… Отпусти меня, хан! Я пойду в другие государства и найду великих подвижников, которые целую жизнь провели в созерцании и размышлениях; у них истина жизни, которой я хочу поучиться. Вот моя вторая просьба…