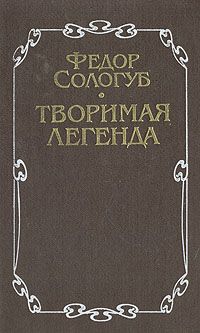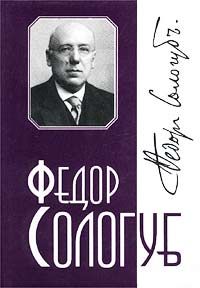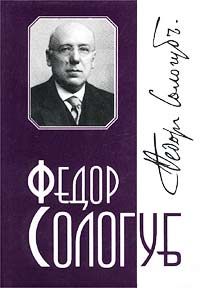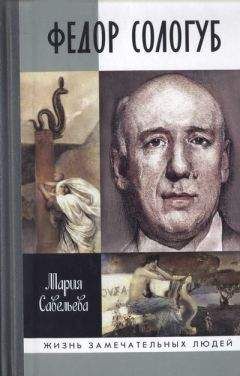Но это все-таки и Россия, в которой вовсю уже тлеет, а местами и ярко вспыхивает пламя разгорающейся социальной борьбы. Так, может быть, в революционерах, во всех этих эсдеках, эсерах, бастующих рабочих и из солидарности с ними бойкотирующих занятия гимназистах и гимназистках, готов увидеть писатель подлинно прогрессивные силы истории, представить их как положительных героев своего романа?
Ничуть не бывало! Отношение к ним у него, как и у его героя, разумеется, сочувственное. Триродов и сам причастен к движению социального протеста. По крайней мере ходит на митинги, укрывает преследуемых властями, помогает движению материально. Но он революционерам духовно чужд и непонятен, как, впрочем, и противоположному лагерю. Собственное отношение Триродова к ним нередко ироническое (с чисто сологубовской отчуждающей иронией), но преимущественно сожалительное, исполненное грустных прозрений. Эти прозрения мы склонны сейчас ассоциировать не столько, может быть, с трагическими событиями всех русских революций, сколько с еще более кровавыми событиями тридцатых годов текущего века, с их массовыми расстрелами и неисчислимыми, неведомыми братскими ямами: «Он печально думал: „Ничего у вас не выйдет. Ненавидящий людей бросит тела ваши в глубокую пропасть, и бросит их друг на друга, чтобы засыпать пропасть вашими телами… Потом, когда-нибудь в земных веках, по возникшему над пропастью лугу пройдут на тот берег спокойно и безопасно те, кто еще не родились, кто родятся не от вас“.
Сологуб не видел в революционерах позитивной исторической силы. Даже в наиболее симпатичном из них в „Творимой легенде“ лидере социал-демократической партии Соединенных Островов Филиппо Меччио Триродов увидел не более чем только оратора и критика. На отношении Сологуба к революционерам и их делам лежит в „Творимой легенде“ печать явной двусмысленности. Наблюдая за собирающейся на демонстрацию толпой вооружившихся восставших, Триродов, например, размышляет: „Подобен вдохновениям и восторгам великой музыки восторг общественных торжеств, праздничных шествий и свободных манифестаций. Шествие по широким просторам дорог и улиц, самовольное и смелое, выше небес поднимает душу“ будет ли оно героическое или преступное. И разве преступник не чувствует себя героем, а порою и герои не чувствуют себя преступниками?» Несомненно, с представлением о революции Сологуб соединял, как Толстой и Достоевский, сложный комплекс не только социальных, но и прежде всего этических, морально-нравственных проблем, касающихся глубинных основ духовной жизни человека. И потому неразрешимых. По крайней мере, на обращенный к Триродову одним из «реакционеров» коварный вопрос: «Что лучше, черная или красная сотня?»– тот, будучи столь умным и проницательным, не находит что ответить.
Своему неверию в возможность насильственным путем уничтожить зло и искусственно создать взамен его царство добра и справедливости Сологуб оставался верен до конца. Уже после революции 1917 года он писал: «Я не принадлежал никогда к классу господствующих в России и не имею никакой личной причины сожалеть о конце старого строя жизни. Но я в этот конец не верю. Не потому, что мне нравится то, что было, а просто потому, что в новинах наших старина слышится мне наша. Я поверил бы в издыхание старого мира, если бы изменилась не только форма правления, не только строй внешней жизни, но и строй души. А этого как раз и нет нигде и ни в ком»[5].
Единственной возможностью для сологубовских героев избавиться от неустранимого на земле зла является путь ухода от него. И дело в таком случае остается только за выбором: смерть, греза, блаженная страна инобытия Ойле, Луна, Королевство Объединенных Островов. Впрочем, выбором последнего, куда герой прибывает не просто блаженствовать, а «царствовать в стране, насыщенной бурями» (этими словами завершается роман), Сологуб вполне подчеркивает мысль об извечной предопределенности человека вращаться между несовершенной действительностью и прекрасной, но тщетной мечтой ее пересоздать.
Из других героев «Творимой легенды» достойна особого внимания королева Ортруда, и даже не меньшего, если не большего, чем сам Триродов, несмотря на то, что она – героиня скорее полусказочного мира и похожа больше на принцессу грез, чем на персонаж реалистического произведения. Ее образ чрезвычайно жив и обаятелен, а судьба поистине прекрасна и трагична. В отличие от общественно-драматической триродовской линии с нею в романе связан мир любовно-драматических коллизий. Ее образ трудно переоценить, если вспомнить, насколько значительна роль любовной проблематики в творчестве Сологуба и как высоко его мастерство в этой области.
К самому большому роману Федора Сологуба можно предъявить немалые претензии: недостаточная жизненность главного героя (впрочем, это же «легенда»), эклектичность, дающая повод прочитывать отдельные части как самостоятельные произведения (конгломерат сюжетов: бытописательных, мистических, научно-фантастических, историко-революционных, любовных, уголовных и проч.). И тем не менее «Творимая легенда» заслуживает своего выхода в свет спустя 75 лет после ее первого полного издания. Читателю конца XX века, переживающему ныне в своем сознании «геологический» сдвиг, интересно будет познакомиться с разными точками зрения относительно назревавшей в России в начале века революции и возможности построения в ней социализма. Этому вопросу уделено в «Творимой легенде» немало внимания. Вероятно, иначе чем современники Сологуба, а именно с учетом экологических катастроф XX века, прочтет он впечатляющее описание извержения вулкана на острове Драгонера, при котором вместе со своим народом погибла королева Ортруда.
Современному читателю близок Сологуб – певец человека с его тайнами бытия и неосуществимой мечтой о счастье. Легендарный мир Сологуба – это, используя образ Анны Ахматовой, «ворота» в ту «страну», где усилиями художника-творца уже достигнуты та гармония и красота, которые никогда, может быть, не станут уделом человека в его обыденной жизни, в реальной действительности. И чтобы их достичь, нужно стать не менее как творцом.
К этому и призывает Федор Сологуб.
А.И. Михайлов
Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, – над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном.
В спутанной зависимости событий случайно всякое начало. Но лучше начать с того, что и в земных переживаниях прекрасно, или хотя бы только красиво и приятно. Прекрасны тело, молодость и веселость в человеке, – прекрасны вода, свет и лето в природе.
Было лето, стоял светлый, знойный полдень, и на реку Скородень падали тяжелые взоры пламенного Змия. Вода, свет и лето сияли и радовались, сияли солнцем и простором, радовались одному ветру, веющему из страны далекой, многим птицам и двум обнаженным девам.
Две сестры, Елисавета и Елена, купались в реке Скородени. И солнце, и вода были веселы, потому что две девы были прекрасны и были наги. И обеим девушкам было весело, прохладно и хотелось двигаться, и смеяться, и болтать, и шутить. Они говорили о человеке, который волновал их воображение.
Девушки были дочери богатого помещика. Место, где они купались, примыкало к обширному, старому саду их усадьбы. Может быть, им было особенно приятно купаться в этой реке потому, что они чувствовали себя госпожами этих быстротекущих вод и песчаных отмелей под их быстрыми ногами. И они плавали и смеялись в этой реке с уверенностью и свободою прирожденных владетельниц и госпож. Никто не знает пределов своего господства, – но блаженны утверждающие свое обладание, свою власть!
Они плавали вдоль и поперек реки, состязаясь одна с другою в искусстве плавать и нырять. Их тела, погруженные в воду, представляли восхитительное зрелище, для того, кто смотрел бы на них из сада, со скамейки на высоком берегу, любуясь игрою мускулов под их тонкою, эластичною кожею. В телесно-желтом жемчуге их тел тонули розовые тоны. Но розы побеждали на их лицах и на тех частях тела, которые бывали часто открыты.
Берег против усадьбы был отлогий. Росли кое-где кусты, за ними далеко простирались нивы, и на краю земли и неба виднелись далекие избы подгородной деревни. Крестьянские мальчики проходили порою по берегу. Они не смотрели на купающихся барышень. Гимназист, пришедший издалека, с другого конца города, сидел на корточках за кустами. Он называл себя телятиною: не захватил фотографического аппарата. Но, утешая себя, он думал: «Завтра непременно возьму».