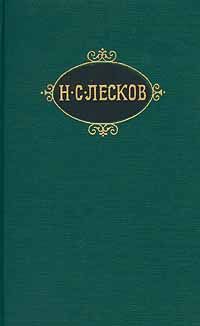Гувернантка схватила со стола нож и подняла его к своему горлу; верные слуги схватили ее сзади за руки. Сопротивляться приказаниям князя никто не смел, да никто и не думал.
Упавшую в обморок гувернантку вырвали из рук молодой княжны, высекли ее в присутствии самого князя, а потом спеленали, как ребенка, в простыню и отнесли в ее комнату. Здесь держали ее спеленатою, пока зажили рубцы от розог, и, как ребенка же, кормили рожком и соской, а, наконец, когда следов наказания не было более заметно, ее со всеми ее пожитками отвезли на крестьянской подводе в ближайший город. Француженка обратилась к кому-то с жалобой, но ей посоветовали прекратить дело, так как в данном случае свои люди не могли быть свидетелями против князя. Могучий Орсал не повел ни усом, ни ухом: равнодушный, как вольтерьянец, к суду божескому, он знать не хотел ни о каком суде человеческом. По примеру наказанной француженки он вздумал высечь своего управителя, какого-то американского янки, и это было причиною собственной погибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, он смело открыл окно своего флигеля, окруженного княжескими людьми, красноречиво выставил перед собою два заряженных пистолета, пробежал никем не тронутый через оторопевшую толпу ликторов и, вскочив на стоявшую у коновязи оседланную лошадь земского, понесся на ней во всю мочь к городу. Посланная погоня, угрожаемая убедительными поворотами пистолетов беглеца, решилась оставить опасную погоню и вернулась с пустыми руками.
Князь задыхался от ярости. Перед крыльцом и на конюшне наказывали гонцов и других людей, виновных в упуске из рук дерзкого янки, а князь, как дикий зверь, с пеною у рта и красными глазами метался по своему кабинету. Он рвал на себе волосы, швырял и ломал вещи, ругался страшными словами.
Стоны, доносившиеся через окно до его слуха, только разжигали его бешенство.
Среди такого ужаса княгиня не выдержала и вошла к мужу.
– Князь! – позвала она тихо, остановившись у порога.
Возле княгини, тут же на пороге, стоял отворивший ей дверь, весь бледный от страха, любимый доезжачий князя, восемнадцатилетний мальчик Михайлушка, которого местная хроника шепотом называла хотя незаконным, но тем не менее, несомненно, родным сыном князя.
– А! Что! Кто вас звал? Кто вас пустил сюда? – закричал, трясясь и топая, старик.
– Я сама пришла, князь; я ваша жена, кто же меня смеет не пустить к вам?
– Вон! Сейчас вон отсюда! – бешено заорал безумный князь и забарабанил кулаками.
– Князь! Вы опомнитесь – Сибирь…
Княгиня не успела договорить своей тихой речи, как тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у которого стоял князь, и молодой Михайлушка, зорко следивший за движениями своего грозного владыки, тяжело грохнулся к ногам княгини, защитив ее собственным телом от направленного в ее голову смертельного удара.
Князь закачался на ногах и повалился на пол. Бешеным зверем покатился он по мягкому ковру; из его опененных и посиневших губ вылетало какое-то зверское рычание; все мускулы на его багровом лице тряслись и подергивались; красные глаза выступали из своих орбит, а зубы судорожно схватывали и теребили ковровую покромку. Все, что отличает человека от кровожадного зверя, было чуждо в эту минуту беснующемуся князю, сама слюна его, вероятно, имела все ядовитые свойства слюны разъяренного до бешенства зверя.
Княгиня спросила через порог воды и пошла со стаканом к мужу.
«Рррбуу», – рычал князь, закусив ковер и глядя на жену столбенеющими глазами; лицо его из багрового цвета стало переходить в синий, потом бледно-синий; пенистая слюна остановилась, и рычание стихло. Смертельный апоплексический удар разом положил конец ударам арапников, свиставших по приказанию скоропостижно умершего князя.
Бежавший княжеский управитель умел заставить проснуться тяжелые на подъем губернские власти; но суд божеский освободил суд людской от обязанности карать преступление опального вельможи. Спешно прибывшая из города комиссия застала князя на столе и откушала на его погребении.
Ни в чем не повинная княгиня Ирина Васильевна осталась в имении, которое должны были наследовать ее сын и падчерица. Она не вмешивалась в управление приставленного опекуна, целый ряд лет никуда не выезжала, молилась, старилась, начинала чудить и год от года все становилась страннее и страннее. Михайлушку, которого молодая, хотя и весьма нежная натура вынесла жестокий удар, назначавшийся княгине, она считала своим спасителем и пристрастилась к нему всею душою. Михайлушка на всю жизнь остался немножко глухим, и эта глухота постоянно не позволяла княгине забывать об оказанной ей этим человеком услуге. Михайлушка сделался избраннейшим любимцем и factotum[3] стареющейся в одиночестве княгини. Единственным ее развлечением, зимою и летом, было катанье по гладкой и ровной степи, но ко множеству развивавшихся в ней странностей она питала необоримую боязнь к лошадям и могла ездить только с Михайлушкой. Поэтому Михайлушка главным образом состоял выездным кучером при ее особе. С ним княгиня ездила спокойно, с ним она отправляла на своих лошадях в Москву в гимназию подросшего князя Луку Аггеича, с ним, наконец, отправила в Петербург к мужниной сестре подросшую падчерицу и вообще была твердо уверена, что где только есть ее Михайлинька, оттуда далеки все опасности и невзгоды. Грязные языки, развязавшиеся после смерти страшного князя и не знавшие истории малахитовой щетки, сочиняли насчет привязанности княгини к Михайлушке разные небывалые вещи и не хотели просто понять ее слепой привязанности к этому человеку, спасшему некогда ее жизнь и ныне платившему ей за ее доверие самою страстною, рабской преданностью.
Когда Михайлиньке минуло двадцать шесть лет, княгиня вздумала женить своего фаворита и, не откладывая этого дела в дальний ящик, обвенчала его с писаной красавицей, сенной девушкой Феней. Пять лет у молодого супружества не было детей, а потом явилась дочь Аннушка, и вслед за тем Михайлинька умер от простуды, поручив свою дочь и жену заботам и милостям совершенно состарившейся княгини. Княгиня старалась как можно добросовестнее выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержание, а маленькая Аня со второго же года была совсем взята в барский дом, и не только жила с княгинею, но даже и спала с нею в одной комнате. В это время молодой князь Лука Аггеич счастливо женился, получил место по дипломатическому корпусу и собирался за границу. Он приехал к матери с женою и трехлетним сыном Кириллом. Одинокая старушка еще более сиротела, отпуская сына в чужие края; князю тоже было жалко покинуть мать, и он уговорил ее ехать вместе в Париж. Княгине жалко было и деревни, но все-таки она не захотела расстаться с сыном, и все семейство тронулось за границу. Аню княгиня, к крайнему прискорбию ее матери, тоже увезла с собою. Через два года княгиню посетило новое горе: ее сын с невесткой умерли друг за другом в течение одной недели, и осиротелая, древняя старушка снова осталась и воспитательницей и главной опекуншею малолетнего внука.
Княгиня Ирина Васильевна в это время уже была очень стара; лета и горе брали свое, и воспитание внука ей было вовсе не по силам. Однако делать было нечего. Точно так же, как она некогда неподвижно оселась в деревне, теперь она засела в Париже и вовсе не помышляла о возвращении в Россию. Одна мысль о каких бы то ни было сборах заставляла ее трястись и пугаться. «Пусть доживу мой век, как живется», – говорила она и страшно не любила людей, которые напоминали ей о каких бы то ни было переменах в ее жизни.
Внука она отдала в один из лучших парижских пансионов, а к Ане пригласила учителей и жила в полной уверенности, что она воспитывает детей как нельзя лучше.
Дети росли, княгиня старилась и стала быстро подаваться к гробу.
Восемнадцатилетний князь Кирилла Лукич смотрел молодцом, хотя и французом, Аня расцвела пышною розой.
Кроме того, чему Аню учили французские учителя и дьячок русской посольской церкви, она немало сделала для себя и сама. Старая княгиня не могла иметь сильного влияния на всестороннее развитие девушки. Она учила ее верить в верховную опеку промысла; старалась передать ей небольшой запас сухих правил, заменявших для нее самой весь нравственный кодекс; любовалась красотою ее лица, очаровательною грациею стана, изяществом манер, и более ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положение ее в доме княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить себя совсем иначе и что на заботы княгини во всем полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нежное сердцем, честное до болезненности и беспредельно доверчивое. Начитавшись романтических писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмом, но при всем том она, однако, понимала свое положение и хотела смотреть в свое будущее не сквозь розовую призму. О семье своей Анна Михайловна знала очень мало. С тех пор, как ее маленьким дитятей вывезли за границу, раз в год, когда княгиня получала из имения бумаги, прочитывая управительские отчеты, она обыкновенно говорила: «Твоя мать, Аня, здорова», и тем ограничивались сведения Ани о ее матери.