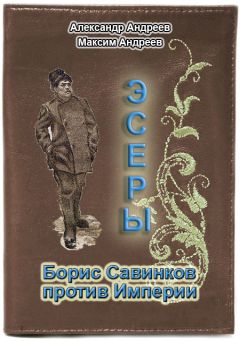– - Простите меня, простите! я во всем один виноват,-- начал он голосом нежным и вкрадчивым,-- но вы бы не судили меня так строго, если бы знали обстоятельства, которые заставили меня изменить собственным чувствам. Вы напрасно думаете, что я обманывал вас, когда клялся любить вас вечно… Изменить клятве было не в моей власти, потому что я любил вас истинно; люблю и теперь еще,-- может быть, более, чем когда-нибудь…
– - Ах, забудем прошедшее! Поздно утешать меня, поздно оправдываться… Между нами ничего не может быть, кроме дружбы…
– - Дружбы, дружбы!.. Пламень пожирает мое сердце… я так счастлив, что наконец после долгих исканий нашел ту, мысль о которой ни на минуту не покидала моего сердца…
И он ударился в чувствительную болтовню, в промежутках которой покрывал ее руки горячими поцелуями. Александрина уже не отнимала рук от губ Ореста. Она была женщина. Орест был ее первою любовью. Она чувствовала, что и теперь еще любовь к нему не совсем погасла в ее сердце. Притом Орест был большой мастер на сантиментальные фразы, которые женщины не совсем еще отвыкли принимать за чистую монету, несмотря на их явную пошлость и устарелость. Однако ж Александрина скоро опомнилась. Ей стыдно стало слабости собственного сердца.
– - Оставьте меня, оставьте! Я еще так мало умею владеть собою; но я не должна слушать вас, не должна верить вам,-- сказала она, приподнимаясь с дивана и стараясь оторвать свою руку от губ Ореста.
Не успела она привесть в исполнение этого последнего намерения, как вдруг дверь растворилась и в комнату вошел мужчина среднего роста, довольно дородный и неуклюжий. Лицо его было рябо и некрасиво; около серых небольших глаз его почти не было век; нос, довольно большой, громко обвинял своего хозяина в близких сношениях с табаком. Одет он был в темно-зеленый поношенный сюртук, застегнутый доверху, и в панталоны такого же цвета, без штрипок; на ногах его были смазные немецкие сапоги, потускневшие от ненастной весенней погоды. Кроме того, надо прибавить, что он ежеминутно моргал бровями без всякой пощады. Картина, представившаяся его глазам, казалось, так поразила его, что он долго оставался неподвижным на одном месте, безмолвно устремив вопросительный взгляд на смущенное, испуганное лицо Александрины.
– - Ах, это вы, Карл Федорович! -- сказала наконец Александрина, стараясь преодолеть свое замешательство.-- Я вас сегодня не ожидала…
– - Да, видно, что вы меня сегодня не ожидали! -- отвечал Карл Федорович, как говорили в старину и как теперь выражаются люди, придерживающиеся старины, "с иронией", ломаным русским языком, искоса поглядывая на Сабельского.
Разговор опять прекратился. Александра Ивановна еще больше смутилась. Карл Федорович не переставал рассматривать Ореста. Орест был в положении человека, не знающего, что вокруг его происходит.
– - Мне еще надо поспеть к девяти часам к князю Л***, а потом я дал слово быть в десять часов на вечере у камергера Флотова,-- наконец сказал он, взял шляпу, рассеянно кивнул головою Александрине, сделал гримасу Карлу Федоровичу и вышел, ловко помахивая палкой из королевского дерева с костяным набалдашником, изображающим голову китайского мандарина пятой степени.
В комнате снова воцарилось молчание. Александрина, казалось, страшилась поднять глаза на Карла Федоровича. Он то переминал табак в табакерке, то чесал за ухом, не забывая беспрестанно моргать глазами…
– - Саперлот! -- наконец проворчал он и понюхал табаку; потом опять проворчал:-- Саперлот,-- опять понюхал табаку и… чихнул.
В комнате снова стало так тихо, что можно было услышать жужжание мухи.
– - А я уж было приготовил новую карету вместо старой коляски, которую вам дал покуда на подержание… Я нарочно торопил моих мастеровых, чтоб поскорей можно было праздновать свадьбу… Что я вам сделал, Александра Ивановна?.. За что вы меня так обидели? -- произнес с расстановкою, после долгого молчания, Карл Федорович голосом, полным чувства и внутреннего волнения.
– - Выслушайте меня,-- сказала Александра Ивановна…
– - Нечего выслушивать… Я не дурак, сударыня. Прощайте, бог с вами!.. Пойду я опять заниматься своим каретным мастерством: авось забуду вас…
– - Ради бога…
Дверь снова отворилась.
– - Что это? Никак Орест Андреевич у нас был опять. Я напилась чайку у Авдотьи Макаровны да иду домой; только я на лестницу, а он и пырь мне навстречу, да такой что-то печальной… Словно несолоно хлебал… Что ты ему молвила, Александрушка… Экой бессовестный -- не постыдился на глаза-то явиться…-- проговорила новопришедшая старуха в очках, снимая с себя верхнюю одежду.-- Ба! Карл Федорович! Вы здесь,-- продолжала она, увидев Карла Федоровича,-- просим милости… Что же вы так невесело смотрите?.. Что, уж вы не поссорились ли с невестой-то?.. Поцелуйтесь же, приголубьте друг друга.
– - Покорно вас благодарю, Анна Тарасьевна! -- сказал Карл Федорович, держа под. носом щепотку табаку, как надо полагать в нерешимости, которой ноздрей прежде понюхать…
– - Да что вы, словно как будто что-то у вас неладно?..
– - Спросите у вашей дочери.
Анна Тарасьевна взглянула на Александру Ивановну.
– - Мать моя, что за оказия! Что случилось, прости господи?
Александра Ивановна закрыла лицо платком и ничего не отвечала.
Анна Тарасьевна взглянула на Карла Федоровича. Он по-прежнему в нерешительности держал щепотку табаку под носом, но теперь уже на лице его можно было прочесть, что нерешительность более относилась к настоящему делу, чем к окончанию важного вопроса о табачной понюшке.
– - Да скажите хоть вы, батюшка Карл Федорович, что случилось? Или вы со мной комедию играете? Грех шутить над старостью, прости господи!
– - Я ничего не могу вам сказать… Прощайте.
– - Да останьтесь, батюшка, помилуйте…
– - Прощайте… Вы уж меня больше не увидите… Прощайте, Александра Ивановна… Я уж больше не приду…
– - Что! -- воскликнула Анна Тарасьевна в недоумении.
– - Куда нам, когда… ну да мой больше ничего сказать не станет… Прощайте…
Он ушел.
Несколько секунд Анна Тарасьевна пребыла безмолвною, неподвижною. Она была углублена в крепкую думу, терялась в каких-то догадках и предположениях… Наконец разум ее просветлел; она сделала быстрое движение к Александре Ивановне.
– - Так, так,-- начала она грозным голосом,-- опять накутила, сударушка! уж я предчувствовала! Детище балованное! что мне с тобой делать-то! Аль норовишь ты меня, старуху горемычную, в гроб уложить? Или тебе самой туда хочется?..
– - Да, да! -- сказала бедная жертва рыдая…
– - Погоди, дождешься скоро. Теперь уж нечего продавать; не на что надеяться… уж теперь, не сегодня завтра, придется нам умирать с голоду… вот убей бог, придется! Нашелся добрый человек, хотел было выпутать из беды… Богатый человек, свой завод каретный имеет… Я было и думала -- слава тебе господи, житье наше горемычное переменится… Он было уж и о свадьбе замышлял… нечего сказать, добрая душа! Уж чего он для нас не делал. Он и долги-то заплатил, и одежи-то тебе нашил, и коляску-то прислал… вишь, нежна больно… привыкла кататься как сыр в масле… пешком ходить не можешь… Уж чего бы, кажется, лучше! Так нет! опять сорванец тут как тут! Говори, озорница, где ты его нашла… как ты с ним съякшалась опять… Как ты перед женихом-то осрамилася…
Александра Ивановна ничего не отвечала: она знала, что оправдываться перед Анной Тарасьевной значило бы терять по-пустому слова.
– - Молчишь, озорница,-- продолжала старуха,-- видно, сказать-то нечего…
И пошла, и пошла Анна Тарасьевна мучить свою бедную падчерицу. И долго злилась она, и долго змеиный язык ее не уставал в изобретении обид всякого рода. И больно было слушать слова ее Александре Ивановне, и страшно рвалось сердце ее, да нечего было делать -- слушала… И горько было ей терпеть унижение от ехидной старухи, да нечего делать -- терпела… Есть минуты в жизни, в которые человеку больше ничего не остается, как или броситься в реку с камнем на шее, или позволить делать с собой, что кто захочет. Единственное утешение человеку тогда -- слезы!
ДРОЖКИ
– - Извозчик!
– - Куда прикажете?
– - На Английскую набережную.
– - Рубль двадцать.
– - Пятиалтынный.
– - Ни копейки меньше.
– - Двугривенный.
– - За четвертак, коли угодно, садитесь.
– - Двугривенный.
– - Нельзя-с.
– - Ну так не надо.
Дама, торговавшаяся с извозчиком, отвернулась и пошла по тротуару с твердым, по-видимому, намерением не заплатить больше двугривенного. Извозчик издали следовал за нею, с полной надеждою получить четвертак. Надежда его имела основанием, между прочим, то, что шаги дамы были тихи и неровны и явно обличали чрезмерную усталость или болезненное состояние идущей. По всему заметно было, что она, как выразился извозчик, "недалеко уйдет", то есть принуждена будет согласиться на его требование. Притом одежда ее, хотя поношенная и простая, была еще не до такой степени бедна, чтоб заставляла предполагать в ее владетельнице отсутствие пятачка серебром.