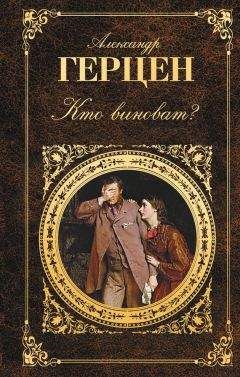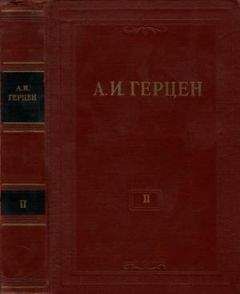Как бы то ни было, сельская жизнь, в свою очередь, надоела Негрову; он уверил себя, что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву. Багаж его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенок ехали в особой бричке. В Москве их поместили в комнатку окнами на двор. Алексей Абрамович любил малютку, любил Дуню, любил и кормилицу, – это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было беспрестанно тошно, – доктор сказал, что она не может больше кормить. Генерал жалел об ней: «Вот попалась редкая кормилица: и здоровая, и усердная, и такая услужливая, да молоко испортилось… досадно!» Он подарил ей двадцать рублей, отдал повойник и отпустил для излечения к мужу. Доктор советовал заменить кормилицу козою, – так было и сделано; коза была здорова. Алексей Абрамович ее очень любил, давал ей собственноручно черный хлеб, ласкал ее, но это не помешало ей выкормить ребенка. Образ жизни Алексея Абрамовича был такой же, как и в первый приезд; он его выдержал около двух лет, но далее не мог. Совершенное отсутствие всякой определенной деятельности невыносимо для человека. Животное полагает, что все его дело – жить, а человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. Хотя Негров с двенадцати часов утра и до двенадцати ночи не бывал дома, но все же скука мучила его; на этот раз ему и в деревню не хотелось; долго владела им хандра, и он чаще обыкновенного давал отеческие уроки своему камердинеру и реже бывал в комнате окнами на двор. Однажды, воротившись домой, он был в необыкновенном состоянии духа, чем-то занят, то морщил лоб, то улыбался, долго ходил по комнате и вдруг остановился с решительным видом. Заметно было, что дело внутри кончено. Кончив внутри, он свистнул, – свистнул так, что спавший в другой комнате на стуле казачок от испуга бросился в противоположную сторону от двери и насилу после сыскал. «Спишь все, щенок, – сказал ему генерал, но не тем громовым голосом, после которого сыпались отеческие молнии, а так, просто. – Поди скажи Мишке, чтоб завтра чем свет сходил к немцу-каретнику и привел бы его ко мне к восьми часам, да непременно привел бы». Видно было, что камень свалился с плеч Алексея Абрамовича, и он мог спокойно опочить. На другой день, в восемь часов утра, явился каретник-немец, а в десять окончилась конференция, в которой с большою отчетливостью и подробностью заказана была четвероместная карета, кузов мордоре-фонсе[7], гербы золотые, сукно пунцовое, басон коклико, парадные козлы о трех чехлах.
Четвероместная карета значила ни более ни менее как то, что Алексей Абрамович намерен жениться. Намерение это вскоре обнаружилось недвусмысленными признаками. После каретника он позвал своего камердинера. В длинной и довольно нескладной речи (что служит к большой чести Негрова, ибо в этой нескладности отразилось что-то вроде того, что у людей называется совестью) он изъявил ему свое благоволение за его службу и намерение наградить его примерным образом. Камердинер понять не мог, куда это идет, кланялся и говорил учтивости вроде: «Кому ж нам и угождать, как не вашему превосходительству; вы наши отцы, мы ваши дети». Комедия эта надоела Негрову, и он в кратких, но выразительных словах объявил камердинеру, что он позволяет ему жениться на Дуньке. Камердинер был человек умный и сметливый, и хотя его очень поразила нежданная милость господина, но в два мига он расчел все шансы pro и contra[8] и попросил у него поцеловать ручку за милость и неоставление: нареченный жених понял, в чем дело; однако ж, думал он, не совсем же в немилость посылают Авдотью Емельяновну, коли за меня отдают: я человек близкий, да и баринов нрав знаю; да и жену иметь такую красивую недурно. Словом, жених был доволен. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она невеста, поплакала, погрустила, но, имея в виду или ехать в деревню к отцу, или быть женою камердинера, решилась на последнее. Она без содрогания не могла вздумать, как бывшие ее подруги будут над ней смеяться; она вспомнила, что и во времена ее силы и славы они ее называли вполслуха полубарыней. Через неделю их обвенчали. Когда, на другое утро, молодые пришли с конфектами на поклон, Негров был весел, подарил новобрачным сто рублей и сказал повару, случившемуся тут: «Учись, осел, люблю наказать, люблю и жаловать: служил хорошо, и ему хорошо». Повар отвечал: «Слушаю, ваше превосходительство», но на лице его было написано: «Ведь я же тебя надуваю при всякой покупке, а уж тебе меня не провести; дурака нашел!» Вечером камердинер давал пир, от которого вся дворня двое суток пахла водкой, и, точно, он расходов не пожалел. Была, впрочем, мучительно горькая минута для бедной Дуни: маленькую кроватку, а с нею и дочь ее велели перенести в людскую. Дуня безмерно любила малютку всей простой, безыскусственной душой. Алексея Абрамовича она боялась – остальные в доме боялись ее, хотя она никогда никому не сделала вреда; обреченная томному гаремному заключению, она всю потребность любви, все требования на жизнь сосредоточила в ребенке; неразвитая, подавленная душа ее была хороша; она, безответная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорблениями, не могла вынести одного – жестокого обращения Негрова с ребенком, когда тот чуть ему надоедал; она поднимала тогда голос, дрожащий не страхом, а гневом; она презирала в эти минуты Негрова, и Негров, как будто чувствуя свое унизительное положение, осыпал ее бранью и уходил, хлопнув дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колени перед иконой, схватила ручонку дочери и крестила ее. «Молись, – говорила она, – молись, мое сокровище, идем мы с тобою мыкать горе; Пресвятая Богородица, заступись за ребенка малого, ни в чем не виноватого… А я-то, глупая, думала: вырастет она, моя сердечная, будет ездить в карете да ходить в шелковых платьях; из-за двери в щелочку посмотрела бы на тебя тогда; спряталась бы от тебя, мой ангел, – что тебе за мать крестьянка!.. А теперь вырастешь ты не на радость себе: сделают тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мылом объест… Господи боже мой! Чем пред тобой согрешил младенец?..» И Дуня, рыдая, бросилась на пол; сердце ее раздиралось на части; испуганная малютка уцепилась за нее руками, плакала и смотрела на нее такими глазами, как будто все понимала… Через час кроватка была в людской, и Алексей Абрамович приказал камердинеру приучать ребенка называть себя «тятей».
Но кто же счастливая избранная? В Москве есть особая varietas[9] рода человеческого; мы говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совершенно сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным переулкам; однообразный порядок и какое-то затаенное озлобление против всего нового составляет главный характер обитателей этих домов, глубоко стоящих на дворе, с покривившимися колоннами и нечистыми сенями; они воображают себя представителями нашего национального быта, потому что им «квас нужен, как воздух», потому что они в санях ездят, как в карете, берут за собой двух лакеев и целый год живут на запасах, привозимых из Пензы и Симбирска. В одном из таких домов жила графиня Мавра Ильинишна. Некогда она кружилась в вихре аристократии, была кокетка, хороша собой, была при дворе, любезничала с Кантемиром, и он писал ей в альбом силлабическим размером мадригал, «сиречь виршную хвалебницу», в которой один стих оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмующий стих – словами: «толь протерва». Но от природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихам, ожидая какой-то блестящей партии. Между тем отец ее умер, а брат, управлявший нераздельным имением, лет в десять пропил и проиграл почти все достояние. Столичная жизнь стала слишком дорога; надобно было жить скромнее. Когда графиня вполне поняла затруднительное положение свое, ей было за тридцать лет, и она разом открыла две ужасные вещи: состояние расстроено, а молодость миновала. Тут она сделала несколько отчаянных опытов выйти замуж – они не удались; тогда, запрятав страшную злобу внутри своей груди, она переселилась в Москву, говоря, что ей шум большого света опротивел и что она ищет одного покоя. Сначала в Москве ее носили на руках, считали за особенную рекомендацию на светское значение ездить к графине; но мало-помалу желчный язык ее и нестерпимая надменность отучили от ее дома почти всех. Брошенная, оставленная всеми, старая дева еще более исполнилась негодованием и ненавистью, окружила себя разными приживающими старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всех концов города, ужасалась развратному веку и ставила себе в высокое достоинство свое бесконечное девство. Граф-братец, окончательно промотавший свое имение, для поправки состояния решился на геройский подвиг для того времени – женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекал ее происхождением, проиграл до копейки приданое, согнал ее со двора, опился и умер. Год спустя умерла и жена, оставив после себя пятилетнюю дочь без всякого состояния. Мавра Ильинишна взяла ее к себе на воспитание. Мудрено сказать, что побудило ее к этому: фамильная гордость, участие к ребенку или ненависть к брату, – как бы то ни было, жизнь маленькой девочки была некрасива, она была лишена всех радостей своего возраста, застращена, запугана, притеснена. Эгоизм старух-девиц ужасен: он хочет выместить на всем окружающем пробелы, оставшиеся в их вымороженном сердце. Безотрадно и скучно подрастала маленькая графиня; по несчастию, она не принадлежала к тем натурам, которые развиваются от внешнего гнета; начав приходить в сознание, она нашла в себе два сильные чувства: непреодолимое желание внешних удовольствий и сильную ненависть к образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинишна не только не доставляла племяннице никакого рассеяния, но убивала претщательно все удовольствия и невинные наслаждения, которые она сама находила; она думала, что жизнь молодой девушки только для того и назначена, чтоб читать ей вслух, когда она спит, и ходить за нею остальное время; она хотела поглотить всю юность ее, высосать все свежие соки души ее – в благодарность за воспитание, которого она ей не давала, но которым упрекала ее ежеминутно. Время шло. Графиня сделалась невестой, и весьма невестой, – ей было уже двадцать три года. Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли – вырваться из ада теткина дома. Могила казалась ей лучше; она пила уксус, чтоб получить чахотку, но он не помогал ей; она хотела идти в монастырь, но в ней не было довольно решимости. Вскоре мысли ее приняли другой оборот. Старинные французские романы, которые она, не знаю как, отрыла в теткином гардеробе, пояснили ей, что есть, кроме смерти и монастыря, значительные утешения; она оставила Адамову голову и начала придумывать голову живую, с усами и кудрями. Тысячи романических картин мучили ее и день и ночь; она сочиняла себе целые повести: он ее увозит, их преследуют, «любить им не велят», раздаются выстрелы… «Ты моя навеки!» – говорит он, сжимая пистолет, и проч. На эту тему с бесчисленными вариациями сводились все мечты, все помыслы ее, все сновидения, и бедная с ужасом просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозит, никто не говорит: «ты моя навеки», – и тяжело подымалась ее грудь, и слезы лились на ее подушки, и она с каким-то отчаянием пила, по приказу тетки, сыворотку, и еще с большим – шнуровалась потом, зная, что некому любоваться на ее стан. Такое состояние духа не могло быть вполне побеждено сывороткой, а вело прямо к сентиментальности и экзальтации. Графиня начала покровительствовать всех горничных и прижимать к сердцу засаленных детей кучера, – период, после которого девушке или тотчас надобно идти замуж, или начать нюхать табак, любить кошек и стриженых собачонок и не принадлежать ни к мужескому, ни к женскому полу. По счастию, на долю графини выпало первое. Она была недурна собой, и в эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: зовущее всего существа ее, ее томные глаза, ее неровно подымающаяся грудь победили Негрова. Он увидел ее раз у Старого Вознесенья – и судьба его жизни была решена. Генерал вспомнил корнетские годы, начал искать всевозможных случаев увидеть графиню, ждал часы целые на паперти и несколько конфузился, когда из допотопной кареты, тащимой высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню с видом вороны в чепчике и мешали выпрыгнуть молодой графине с видом центифольной розы. У генерала была в Москве двоюродная сестра… У кого есть в Москве двоюродная сестра, оседлая и довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он имеет чин и деньги, а она не имеет еще жениха. Генерал вверил свою тайну кузине, – та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как с неба, свалилось сватовство. Она тотчас послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала; кузина выгнала из ближней комнаты горничных, чтоб никто не мог подслушать. Через час времени титулярная советница с раскрасневшимся лицом выбежала от кузины и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день, утром в девять часов, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в одиннадцать часов и еще не приходила; наконец желанная гостья явилась, и с нею другая особа, в чепчике; словом, дело кипело с необычайною быстротою и с достодолжным порядком. У графини в доме начались исподволь важные перемены; с окон сняли сторы из равендука и велели вымыть, замки было велено вычистить кирпичом с квасом (суррогат уксуса); в передней, где ужасно пахло кожей, оттого что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всеми, Мавра Ильинишна была в восхищении, что за ее племянницу сватается генерал да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволения начать сватовство. Однажды утром графиня приказала племяннице одеться повнимательнее, открыть больше шею и сама осматривала ее с ног до головы.