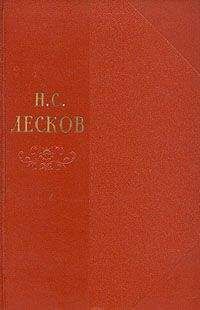— Здравствуйте, Иван Петрович!
— Здравия желаю, ваше превосходительство, — отвечал он очень задушевным голосом, который тоже показался мне чрезвычайно симпатичным.
Говоря ответную фразу в солдатской редакции, он, однако, мастерски умел дать своему тону оттенок простой и вполне позволительной шутливости, и в то же время один этот ответ устанавливал для всей беседы характер своего рода семейной простоты.
Мне становилось понятным, почему этого человека «все любят».
Не видя никакой причины мешать Ивану Петровичу держать его тон, я сказал ему, что я рад с ним познакомиться.
— И я с своей стороны тоже считаю это для себя зачесть и за удовольствие, — отвечал он стоя, но выступив шаг вперед своего экзекутора.
Мы раскланялись, — экзекутор ушел на службу, а Иван Петрович остался у меня в приемной.
Через час я попросил его к себе и спросил:
— У вас хороший почерк?
— У меня характер письма твердый, — отвечал он и сейчас же добавил: — Вам угодно, чтобы я что-нибудь написал?
— Да, потрудитесь.
Он сел за мой рабочий стол и через минуту подал мне лист, посередине которого четкою скорописью «твердого характера» было написано: «Жизнь на радость нам дана. — Иван Петров Аквиляльбов».
Я прочел и неудержимо рассмеялся: лучше того, что он написал, не могло к нему идти никакое выражение. «Жизнь на радость»; вся жизнь для него сплошная радость!
Совсем в моем вкусе человек!..
Я дал ему переписать на моем же столе малозначительную бумагу, и он сделал это очень скоро и без малейшей ошибки.
Потом мы расстались. Иван Петрович ушел, а я остался один дома и предался своей болезненной хандре, и признаюсь — черт знает почему, несколько раз переносился мыслию к нему, то есть к Ивану Петровичу. Ведь вот он небось не охает и не хандрит. Ему жизнь на радость дана. И где это он проживает ее с такой радостью на свои четырнадцать рублей… Поди, пожалуй, в карты счастливо играет, или тоже взяточки перепадают… А может быть, купчихи… Недаром у него этот такой свежий гранатный галстух…
Сижу за раскрытыми передо мною во множестве делами и протоколами, а думаю о таких бесцельных, вовсе до меня не относящихся пустяках, а в это самое время человек докладывает, что приехал губернатор.
Прошу.
Губернатор говорит:
— У меня послезавтра квинтет, — надеюсь, будет недурно сыграно, и дамы будут, а вы, я слышал, захандрили у нас в глуши, и приехал вас навестить и просить на чашку чаю — может быть, не лишнее будет немножко развлечься.
— Покорно вас благодарю, но отчего вам кажется, что я хандрю?
— По Ивана Петровича замечанию.
— Ах, Иван Петрович! Это который у меня дежурит? И вы его знаете?
— Как же, как же. Это наш студент, артист, хорист, но только не аферист*.
— Не аферист?
— Нет, он так счастлив, как Поликрат*, ему не надо быть аферистом. Он всеобщий любимец в городе — и непременный член по части всяких веселостей.
— Он музыкант?
— Мастер на все руки: спеть, сыграть, протанцевать, веселые фанты устроить — все Иван Петрович. Где пир, там и Иван Петрович: затевается аллегри* или спектакль с благотворительною целью — опять Иван Петрович. Они выигрыши распределит и вещицы всех красивее расставит; сам декорации нарисует, а потом сейчас из маляра в актера на любую роль готов. Как он играет королей, дядюшек, пылких любовников — это загляденье, но особенно хорошо он старух представляет.
— Будто и старух!
— Да удивительно! вот я к послезавтрашнему вечеру, признаться, и готовлю с помощью Ивана Петровича маленький сюрприз. Будут живые картины. — Иван Петрович их поставит. Разумеется, будут и такие, что ставятся для дам, желающих себя показать, но три будут иметь кое-что и для настоящего художника.
— Это сделает Иван Петрович?
— Да, Иван Петрович. Картины представляют «Саула у волшебницы андорской»*. Сюжет, как известно, библейский, а расположение фигур несколько дутое, что называется «академическое», но тут все дело в Иване Петровиче. На одного его все и будут смотреть — особенно когда при втором открытии картины обнаружится наш сюрприз. Вам я могу сказать этот секрет. Картина открывается, и вы увидите Саула: это царь, царь с головы до ног! Он будет одет, как все. Ни малейшего отличия, потому что по сюжету Саул приходил к волшебнице переодетым, так чтобы она его не узнала, но его нельзя не узнать. Он царь, и притом настоящий библейский царь-пастух. Но занавес упадет, фигура быстро изменяет свое положение: Саул лежит ниц перед явившейся тенью Самуила. — Саула теперь все равно что нет, но зато какого видите Самуила в саване!.. Это вдохновеннейший пророк, на раменах* которого почиет сила в лице, величие и мудрость. Этот мог «повелеть царю явиться и в Вефилеи в Галгалах»*.
— И это будет опять Иван Петрович?
— Иван Петрович! но ведь это не конец. Если попросят повторения, — в чем я уверен и сам о том позабочусь, — то мы вас не станем томить задами, а вы увидите продолжение эпопеи.
Новая сцена из жизни Саула будет совсем без Саула. Тень исчезла, царь и сопровождавшие его вышли; в двери можно заметить только кусок плаща на спине последней удаляющейся фигуры, а на сцене одна волшебница…
— И это опять Иван Петрович!
— Разумеется! Но ведь вы перед собою увидите не то, как изображают ведьм в «Макбете»*…Никакого столбнякового ужаса, ни ломки, ни кривляний, но вы увидите лицо, которое знает то, что не снилось мудрецам*. Вы увидите, как страшно говорить с выходцем из могилы.
— Воображаю. — отвечал я, будучи всемерно далек от мысли, что не пройдет трех дней, как мне приведется не воображать, а на самом себе испытывать такую пытку.
Но это пришло после, а теперь все было полно одним Иваном Петровичем — этим веселым, живым человеком, который вдруг, как боровичок после грибного дождичка, из муравы выскочил, не велик еще, а отовсюду его видно, — все на него поглядывают и улыбаются: «Вот-де какой крепенький да хорошенький».
Я вам передавал, что говорил о нем его экзекутор и губернатор, а когда я полюбопытствовал, не слыхал ли чего-нибудь о нем один из моих чиновников светского направления, так они оба враз заговорили, что встречали его и что он в самом деле очень мил и хорошо поет с гитарой и с фортепиано. И им он тоже нравился. На другой день заходит протопоп. Он, как я побывал у него в церкви, всякий праздник приносил мне просфору и на всех священноябедничал. Он ни о ком хорошо не говорил ив этом отношении не делал исключения и для Ивана Петровича, но зато священноябедник знал не только природу всякой вещи, но и ее происхождение. Про Ивана Петровича он сам начал:
— Вам чинца обменили. Это все с умыслью…
— Да, — говорю, — какого-то Ивана Петровича дали.
— Ведом нам, как же, довольно ведом. Мой свояк, на которого место я сюда переведен с обязательством воспитать сирот, он его и крестил… Отец-то тоже был из колокольных дворян*…в приказные вышел, а мать… Кира Ипполитовна… Таксе у нее имечко, — она по страстной любви к его родителю уходом за него ушла… Скоро, однако, вкусила и горечи любовного зелья, а потом и овдовела.
— Она сама сына воспитывала?
— Да какое его воспитание: в гимназии классов пять проучился, да и пошел в писатели в уголовную палату… со временем помощником сделали… А счастлив очень: в прошлом году коня с седлом в лотерею выиграл и с губернатором на охоту нынче за зайцами ездил… Фортепиан, полковые выходили*, так разыгрывали, — опять тоже ему достался. Я пять билетов взял и. не выиграл, а он всего един, да и на тот получил. Сам музычит и Татьяну учит.
— Это кто же — Татьяна?
— Сиротку они взяли — ничего себе… черномазенькая. Он ее обучает.
Весь день проговорили об Иване Петровиче, а вечером слышу, у моего Егора в комнатке что-то жужжит. Зову его и спрашиваю, что это у тебя такое?
— Это, — отвечает, — я пропилеи делаю*.
— Что еще за пропилеи?
Иван Петрович, обратив внимание, что Егор скучает от бездействия, принес ему пилок и дощечек от сигарных ящиков с наклеенными узорами и научил его подставочки выпиливать. — Заказ дал к лотерее.
Утром в тот день, когда Иван Петрович вечером должен был и играть и всех удивлять в картинах на пиру у губернатора, я не хотел его задерживать, но он оставался при мне до обеда и даже очень насмешил меня. Я пошутил, что ему надо бы жениться, а он отвечал, что предпочитает остаться «в девушках». В Петербург его звал.