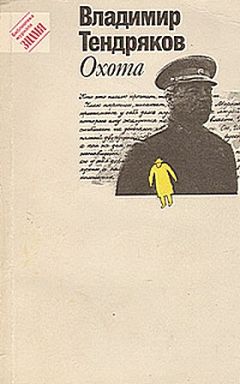Рота Мохнатова занимала оборону напротив птицефермы. Имя лейтенанта Мохнатова в полку у всех на языке - от командира полка до последнего повозочного в обозе.
Я представлял его себе: дюжий мужчина с окопной небритой физиономией, с длинными руками, болтающимися у колен, - нечто гориллообразное! Мох-на-тов - одна фамилия чего стоит!
От общей траншеи, в которой можно ходить не сгибаясь, на шажок-другой вперед к противнику пробит тесный тупичок. В нем - земляная приступочка-насестик. Это наблюдательный пункт ротного командира. Тут восседает, упираясь пыльным сапожком в стенку, парнишка в выгоревшей до холщовой белизны гимнастерке. У него матово-смуглое, с мягким овалом, грязное лицо, сухая мочальная прядка из-под пилотки и сипловатый, задиристый, порой даже дающий петуха голос.
- Телефонист! - кричит он с несолидной агрессивностью. - Разыщи мне по проводам эту сволочь мордатую!..
"Сволочь мордатая" - ротный старшина, доставивший ночью слишком мало воды на позицию. Мохнатов угрожает упечь старшину в стрелковый взвод.
Над пыльной пилоткой ротного командира клокочет прозрачный, наливающийся зноем воздух - шуршат, шепелявят летящие через нас тяжелые снаряды, ноют, стенают пули, плетется зловещий шепот заблудившихся осколков. Внизу же, под ротным, на уровне его давно не чищенных сапожек, в тесноте прохладной траншеи идет деловитая и суматошная жизнь переднего края. Сутуловатой рысцой бегает связной Мохнатова, уже известный мне Вася Зяблик. Возле самых сапожек почтительно стоит зачуханный солдатик - пряжка брезентового ремня на боку, гимнастерка в пятнах машинного масла, свисающие штаны, неподтянутые обмотки и неделю - с самого начала нашей фронтовой жизни - не мытое, не бритое, полосатое лицо. Это Гаврилов, лучший пулеметчик в роте, а может, и во всем полку, мастерски давит из своего "максимки" огневые точки противника. Именно он сейчас вызвал гнев Мохнатова на старшину, сообщив, что скоро будет нечего заливать в кожух пулемета. Рядом с ним командир левофлангового взвода Дежкин, пожилой старший сержант грустно-бухгалтерского вида. Он вот уже без малого полчаса терпеливо выпрашивает у Мохнатова пулеметный расчет Гаврилова: "Уж больно стрекунов развелось напротив нас, попугать надо..." А Мохнатов не говорит ни да, ни нет, дипломатически, с излишней горячностью сволочит старшину:
- Брюхо в обозе нажрал! Морда солдатской задницы толще! При ясном солнышке и не увидишь красавца!..
- Санинструктора!.. Где санинструктор?..
По траншее ведут раненого. Он гол по пояс, правое плечо неуклюже замотано слепяще-белыми бинтами, на выступающих ребрах, по синюшной коже черные проточины засохшсй крови. Один солдат теснится сзади раненого, придерживает его из-за спины за здоровый локоть. Второй, рослый, громогласный, выступает вперед, решительно, словно перед дракой, машет руками, взывает к санинструктору.
Мохнатов круто повернулся к ним на своем насесте:
- Пач-чему вдвоем? Пач-чему не всем взводом снялись?! Дежкин! Эт-та твои красавцы?
Но Дежкин ответить не успевает. Лейтенант Мохнатов валится на голову почтительно стоящего под ним пулеметчика Гаврилова. Траншея содрогается от взрыва, со стенок течет песок, с безоблачного неба на секунду падает тень.
Считается, нас не обстреливают, когда каска, положенная на бруствер, не падает со звоном обратно в окоп. Но даже и в такие тихие минуты не высовывайся без нужды - "запорошит глаза".
Обычно каска падает в течение всего дня. Но иногда бруствер просто метелит от свинца и стали, траншею лихорадит от взрывов, тут уж каска падает - не успеваешь досчитать до десяти.
- "Клевер"! "Клевер"! Как слышишь, "Клевер"?..
У меня остался тот же абонент, только вчера я ему кричал сверху вниз, из штаба полка: ",,Клевер''! ,,Клевер''!" Теперь кричу снизу, из роты. И как бы ни стреляли, как бы ни тряслась земля от взрывов, как бы осколочная метель ни гуляла по брустверу, но если "Клевер" нас слышит, все прекрасно, живем - не продувает, от обстрела даже уютней. В земле как у Христа за пазухой, попробуй-ка достань!
Но вот...
- "Клевер"! "Клевер"!..
Тупая немота в трубке.
И я толкаю своего напарника, еще не проснувшемуся сую трубку в руку:
- Держи. Я "гулять" пошел.
Днем "гуляем" строго по очереди. При прошлом обрыве "гулял" мой напарник. В более покойное время... Сейчас - падает каска... Через край окопа ныряй, как в прорубь.
Тянется в степь тонкая нитка кабеля. Над спиной, над твоей открытой, незащищенной спиной, над самым затылком гуляет многоголосая смерть.
Несложен язык резвящейся смерти. Его начинаешь постигать в первые же часы на фронте.
Нежно и тоскующе поют пули, растворяясь в толще воздуха. Не обращай на них внимания - пустышки. Если же пуля взвизгнет коротко и свирепо, обдаст кожу лица колючими брызгами земли - значит, бьют прицельно, значит, вторая или третья пуля может быть твоей, отрывайся от заклятого места и беги. Но не на ногах, а на спине, на животе катись по степи - небо, полынь, небо, полынь! - пока пули вновь успокаивающе не заноют в вышине.
Сухо шуршит и пришептывает осколок, тычется где-то совсем рядом, пошарь - найдешь. Тоже не страшен. Он долго блуждал в синеве, потерял свою убойную силу. Может ударить, даже ранить, но не смертельно.
Давящий душу вой, вой, сверлящий мозг... И нет ничего страшнее на войне, когда этот вой обрубается. Краткий миг оглушительной тишины. Многие после этой тишины уже ничего никогда не слышали. Но и тот еще не фронтовик, кто не коченел от нее неоднократно.
Кабель тянется через степь... Никого вокруг, далеко люди, если ранит далека помощь. В самые опасные для себя минуты телефонист-катушечник воюет в одиночку.
Кабель тянется через степь... Стоп! Не тянется! Вот обрыв!.. Взрывом разбросало концы кабеля...
- "Клевер"! "Клевер"!..
Нет "Клевера"... Сейчас будет. Отыскать отброшенный конец, срастить минутное дело. Иногда, правда, осколки рвут кабель в клочья, но все равно невелик труд стянуть и срастить. Велик путь - туда и обратно.
В окопе встречает тебя взгляд напарника, в нем уважение и благодарность. Пусть он сам проделывает не раз на дню такие же путешествия, но все равно сейчас благоговеет передо мной, человеком, блуждающим возле того света.
Мы вдвоем обслуживаем деревянный, обшарпанный ящичек с трубкой. О своем напарнике я знаю только, что он сибиряк и что у него странная фамилия Небаба.
Но сколько раз под затяжным обстрелом я ждал его с тоскливым напряжением! Сколько раз я радовался его возвращению и видел в его глазах точно такую же радость. Он мне родной брат, я ему - тоже, не сомневаюсь. Но что он за человек? Что любит, а что не переносит? Женат или холост, весельчак по характеру или нытик?.. Не знаю даже, молод он или не очень. Под слоем окопной грязи мы все выглядим стариками.
Мы живем тесно и живем по очереди. Один из нас дежурит, другой непременно спит в это время, один выскакивает под огонь на линию, другой остается у телефонной трубки. Встречаемся мы лишь среди ночи, когда приходят полевые кухни, за котелком горячей пшенной сечки. В эти короткие минуты мы говорим не о себе - о деле и о посторонних.
- В первом взводе опять двоих ранило... Аппарат у нас что-то барахлит, должно быть, батареи сели.
- Заземление погляди - окислилось...
Близкие и далекие, братски спаянные и совсем незнакомые.
Я описываю это подробно, словно проходила неделя за неделей нашего сидения в ротной траншее. Нет, прошло всего двое суток, тягостно бесконечных, как ожидание, утомительно кошмарных, как сама война, однообразных, как любые будни.
На исходе вторых суток я услышал оживление на линии.
До меня, "Василька", прорвался с далекого "Колоса" самоличный бас ноль первого, командира полка по нашему коду. Потом поминутно стали требовать от "Клевера": "Срочно к телефону Улыбочкина... Пошлите связного к Улыбочкину... Кого-нибудь из хозяйства Улыбочкина..." Я знал весь полковой и батальонный начсостав и по фамилиям и по номерам. Улыбочкина среди них не наблюдалось. Наконец в нашей растительной семье появилась новая сестрица "Крапива". И эта "Крапива" с ходу начала заботиться об "угольках к самовару". Я понял - к нашему батальону придали минометную батарею.
Ночью явился сам командир батальона капитан Пухначев, влез в землянку к Мохнатову, через минуту выскочил оттуда Вася Зяблик. Над изрытой степью, над окопами захороводили в тихой ночи голоса:
- Дежкина к лейтенанту!.. Старшего сержанта Дежкина!.. Младшего лейтенанта Галчевского к командиру роты!..
Мохнатов созывал к себе взводных.
Рядом, шагах в десяти, наш пулеметчик, должно быть Гаврилов, отбил оглушительную очередь: не сплю, поглядываю! С той стороны ответили. Я сидел на дне траншеи, но отчетливо представлял себе, как стороной над темной степью проплывают трассирующие пули.
- Это ты, Володя?.. - Надо мной склонился Галчевский. Его лицо тонуло в глубокой каске, серел в сумерках острый подбородок, на тонкой шее неуклюже висел тяжелый ППД - только что с инструктажа. - Приказ: завтра взять птицеферму,- сказал он, опускаясь рядом. - Капитан Пухначев только что Мохнатову принес.