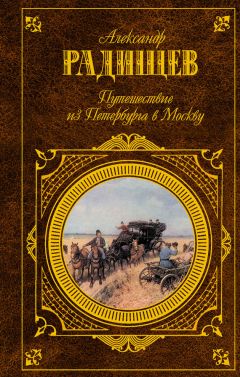Между людьми, получившими воспитание разного рода, понятия о священных вещах долженствовали быть и были разные. Если бы возможно было определить, какое каждый из нас имел тогда понятие о боге и о должном ему почитании, то бы описание сие показалося взятым из какого-либо путешествия, в коем описывается исповедание веры неизвестных народов. Иной почитал бога не иначе как палача, орудием кары вооруженного, и боялся думать о нем, столь застращен был силою его прещения. Другому казался он вскруженным толпою младенцев, – азбучной учитель, которого дразнить ни во что вменяется, ибо уловкою какою-нибудь можно избегнуть его розги и скоро с ним опять поладить. Иной думал, что не токмо дразнить его можно, но делать все ему на смех и вопреки его велениям. Все мы, однако же, воспитаны были в греческом исповедании, и для сохранения нас в православии отправлен с нами был монах, которому в должность предписано было наставлять нас в христианском законе, отправлять для нас службу церковную и быть нашим духовником.
Отец Павел был в своем роде человек полуученый, знал по-латыне, по-гречески и несколько по-еврейски. В семинарии прошел все нижние и вышние философские и богословские классы и был учителем риторики. Но если ему известны были правила красноречия, древними авторами преподанного, если знал он, что есть метафора, антитезис и прочие риторические фигуры, то никто столь мало не был красноречив, как наш отец Павел. Добродушие было первое в нем качество, другими он не отличался и более способствовал к возродившемуся в нас в то время непочтению к священным вещам, нежели удобен был дать наставление в священном законе. Судить можно из следующего.
Исправление наше (ибо при первом нашем свидании он почел нас богоотступниками, хотя ручаться можно, что ни один из нас в то время ниже повести не читывал о афеистах) – исправление наше начал он тем, что заставил нас при утренних и вечерних на молитве собраниях петь. Если воспомнишь, мой друг, сколь нестройной, несогласной и шумной у нас был всегда концерт, то и теперь еще улыбнешься. Иной тянул очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной чресчур кудряво, и, наконец, устроенное на приучение ко благоговению превратилося постепенно в шутку и посмеялище.
Отец Павел, если припомнишь, гораздо был смешлив, и если случалося ему во время богослужения видеть что-либо смешное, то, забыв важность своего действия, начинал смеяться, как то случилося ему в Лейпциге, увидев одного из нас, а именно князя Трубецкого, поющего на крылосе, искривив лицо для высокого напева. Для сей-то причины он отправлял богослужение, большею частию зажмурившись.
В Риге на молитве случилось весьма смешное происшествие. Отец Павел, опасаясь увидеть что-либо пред глазами, могущее подвигнуть его на смех, зажмурился, начиная пение. Сим Михаил Ушаков, человек шутливой и проказливой, захотел воспользоваться, дабы рассмешить нашего отца Павла.
Икона, пред коей совершался наш молитвенный напев, стояла в верху довольно просторного стола, на котором раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. Пред столом стоял отец Павел, зажмурившись. М. Ушаков, взяв легонько одну из перчаток, на столе лежавших, и, согнув персты ее образом смешного кукиша, положил оную возвышенно прямо пред поющего нашего духовника. При делании поясных поклонов растворил зажмурившиеся глаза свои, и первое представилася ему сложенная перчатка. Не мог он воздержаться, захохотал громко, и мы все за ним.
Отец Павел, не привыкнув еще к нашим проказам, обретал в них более, нежели простые и юношеские шутки. Оборотясь, наименовал он нас богоотступниками, непотребными и другими в приложении юношества смешными названиями; сделавшего же вину смеха называл неграмматикально, может быть, мошенником, да и того хуже. При первых уже словах М. Ушаков, будучи весьма вспыльчив, восколебался, и столь же смешным деянием, как сей неприличными словами, представили нам позорище, какого ни на каком феатре за рубль купить не можно. М. Ушаков, схватив висящую на стене шпагу и привесив ее к бедре своей, бодро приступил к чернецу; показывая ему ефес с темляком, говорил ему, немного заикаясь от природы: «Забыл разве, батюшка, что я кирасирской офицер». В таком вкусе было продолжение сего действия, которое для нас кончилось смехом, для М. Ушакова мнимою победою, а для отца Павла отъитием с негодованием в свою комнату.
Сие и подобные сему происшествия умалили в нас почтение к духовной над нами власти, так как шутки над нашим гофмейстером некоторого проезжавшего российского гвардии офицера, о чем я скажу после, возбудили к нему в нас совершенное пренебрежение. Еще о красноречии отца Павла: следуя, не ведаю, данному предписанию или по собственному своему побуждению, он каждое воскресение по совершении литургии становился пред царскими дверьми за налоем и преподавал нам толкование о чтенном того дня Евангелии. Вследствие сего обряда в некакой праздник, во Благовещение, если хорошо помню, он объяснить нам старался, что в Священном писании разумеется под ангелом божиим. «Ангел есть слуга господень, которого он посылал для посылок; он то же, что у государя курьер, как то г. Гуляев». Тогда был в Лейпциге приехавший из Петербурга, с некоторыми приказаниями, курьер кабинета и был с нами присутствен на литургии. При изречении сего забыли мы должное к церкви благоговение, забыли ангела, видели действительного курьера, и все захохотали громко. Отец Павел засмеялся за нами вслед, зажмурил глаза, потом заплакал и сказал: «Аминь».
Приехав в Лейпциг, забыл Федор Васильевич все обиды и притеснения своего начальника и вдался учению с наивеличайшим рвением, но как не окоренел еще в трудолюбии сего рода, то на время от оного отвлечен был случившимся с нами неприятным происшествием, которое для всех нас было деятельною наукою нравственности во многих отношениях.
Если иные в повествовании сем найдут что-либо пристрастное, не буду тронут тем, ведая, что они ошибаются; но ты, мой друг, будучи содействователь всего, обрящешь в нем истину.
Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и, подобно правителям народов, возмнил, что он не для нас с нами; что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его. Власть свою хотел он употребить на приведение нас к молчанию о его поступках. Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темницы, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего-то притеснители частные и общие, по счастию человечества, не разумеют и, простирая повсеместную тяготу, предел оныя, на коем отчаяние бодрственную возносит главу, зрят всегда в отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человека мглою. Не ведают мучители, и даждь, господи, да в неведении своем пребудут ослепленны навсегда, не ведают, что составляющее несносную печаль сему, другому не причиняет ниже единого скорбного мгновения, да и в оборот то, что в одном сердце ни малейшего не произведет содрогания, во сте других родит отчаяние и исступление. Пребуди благое неведение всецело, пребуди нерушимо до скончания века, в тебе почила сохранность страждущего общества. Да не дерзнет никто совлещи покров сей с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем и умрет в семени до рождения своего.
Первое, с чем Бокум по приезде в Лейпциг начал правление свое, было сокращение издержек относительно нас, елико то возможно было. Но не воображай, чтобы домостроительство было тому причиною: что он отчислял от нашего содержания, то удвоял во своем, и принужден был лишать нас даже нужнейших вещей на содержание наше. О сем те, кои из нас были постарее, и в числе оных первой был Федор Васильевич, делали ему весьма краткие представления гораздо кротче, нежели когда-либо парижский парламент делывал французскому королю. Но как таковые представления были частные, как то бывают и парламентские, а не от всех, то Бокум отвергал их толико же самовластно, как и король французской, говоря своему народу: «В том состоит наше удовольствие».
Наскучив представлениями, Бокум захотел их пресечь вдруг, показав пространство своей власти. Придравшись к маловажному проступку князя Трубецкого, он посадил его под стражу, отлучив его от обхождения с нами, и приставил у дверей комнаты, в которую он был посажен, часового с полным оружием, выпросив нарочно для того трех человек солдат. Не довольствуяся таковым наглым поступком, он грозил посаженному под стражу, и нам за ним, если не уймемся, то, по данной ему власти, он будет нас наказывать фуктелем, как то называют, или ударами обнаженного тесака по спине. Сие произвело в нас противное действие тому, которое он ожидал. Ведали мы, что власти таковой ему дано не было, и всякому известно было, что мягкосердие начинало в России писать законы, оставя все изветы лютости прежних, хотя поистине душесильных времен. Негодование в нас возросло до исступления; но мы не забыли еще умеренности, и хотя скопом и заговором, но для ребят довольно правильно и благопристойно, пришли все просить его об отпущении вины князя Трубецкого и об освобождении его из-под стражи. Вместо того, чтобы воспользоваться кротким расположением душ наших и привлечь к себе нашу признательность отпущением вины сотоварища нашего в уважение нашея просьбы, он ее нагло отвергнул и выслал нас с презрением. Сие уязвило сердца наши глубоко, и мы не столько помышлять начали о нашем учении, как о способах освободиться от толико несносного ига.