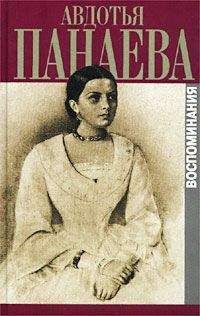– - Что же ты не бросила земли своей бабушке? Видишь, все бросают!
– - Оставь меня! Я не хочу бросать червей в могилу к бабушке.
– - Вот! Не все ей равно -- одним больше, одним меньше! -- подхватила другая старуха с отвратительным смехом.
– - Если не бросишь, так твоя бабушка сегодня же ночью придет к тебе в саване и…
Не дослушав страшных слов старухи, я в испуге бросила в могилу цветы, вырвала свою руку и побежала за матерью. Старухи провожали меня смехом, похожим на воронье карканье.
Прибежав к церкви, я была тотчас втиснута в карету, уже наполненную братьями и сестрами. Мать спросила у сидевшей с нами девушки: "Все ли тут?", та отвечала: "Все-с", и потом уже начала пальцем считать нас; по счету оказалось восемь, то есть ни больше, ни меньше того, сколько нас было… Мы двинулись, но, сделав несколько сажен, карета должна была остановиться. Навстречу несли маленький гроб; за ним в изнеможении, спотыкаясь, бежала бледная женщина. Она ломала руки и кричала, как будто желая остановить шествие. В первый раз в жизни видела я такое сильное отчаяние и очень удивилась, как можно так горько плакать о маленьком ребенке, вспомнив смерть своей сестры, о которой никто не плакал. Маменька кстати поспешила меня вывести из затруднения своим замечанием.
– - Вот дура! О чем плачет, -- сказала она вслед рыдающей женщине. -- Какой клад потеряла. Видно, первый! Дала бы я ей столько!..-- И тут она выразительно показала головой на нашу карету и потом сердито закричала нашему кучеру: -- Болван! Что стоишь?
Кучер вздрогнул от неожиданного приветствия, и, как чрез электрический удар, его испуг разрешился на костлявых боках лошадей, которые, вздрогнув в свою очередь, благополучно двинулись после двух или трех отчаянных усилий… Дорога показалась мне очень коротка; каждый из нас рассказывал свои впечатления и похождения на кладбище: кто говорил про червей, кто про покойников, которых было в тот день довольно много.
Мы приехали домой. Комнаты наши совершенно изменились. Вместо гроба я увидела длинный стол, отягченный разного роду бутылками. Гостей было очень много; скоро все уселись за стол, кроме детей, которым не оказалось места, потому что за наш стол усадили дьячков. Начали подавать кушанье.
Тишина воцарилась страшная, так что я выглянула из другой комнаты, чтоб узнать, не опять ли хотят заколачивать гроб бабушки. Но меня успокоили довольные лица гостей, вместо гроба -- бутылки, вместо запаху ладана -- приятный запах ухи и огромной кулебяки. Обедали много и долго, так что мне даже стало скучно смотреть, как всё жуют да жуют, а медленное покачивание отуманенных голов наводило на меня уныние…
Несмотря на трехдневный страх, я провела время похорон приятно, потому что я в первый и последний раз в моем детстве чувствовала себя свободной, вероятно по той причине, что никто не думал о моем существовании…
Нежность маменьки скоро истощилась: она в тот же день простилась с тетенькой Александрой Семеновной очень холодно, а утром сердилась на нее за беспорядки в кухне и детской. Тетенька, не дожидаясь шести недель, вступила в права наследства, которое состояло из образа, старого салопа и двух пуховых подушек. Взамен нежности и участия маменька дала ей неограниченную власть в детской и ограниченное управление в кухне.
Скоро произошли у нас большие перемены. Мать нашла излишним видеть детей в зале и в своей комнате, потому вход туда был нам запрещен под строжайшим наказанием. Даже десятилетний обычай был отменен: мы более не прощались с отцом и с матерью. "Дети, -- говорила она, -- и без того надоедят в течение дня, да и здоровье не позволяет мне возиться с ними!" И, может быть для поправления расстроенного здоровья, она просиживала не только целые дни, но и ночи напролет за картами. Страшно было приближаться к ней иногда: ночь без сна, значительный проигрыш до того раздражали ее, что она нередко сама отменяла утреннее целование руки, страшась за последствия. Отец был недоволен страстью жены своей к картам. Частые ссоры из-за денег больше и больше ожесточали маменьку против детей. Для успокоения своей совести она даже принялась вести счеты, из которых отец ясно мог усмотреть, что страсть к игре стоит ей какие-нибудь сотни в год, а на детей идут тысячи. В самом же деле было наоборот. Утро было особенно тягостно для всех в доме. Повара бранили за то, что он не умел сотворить чуда -- накормить двадцать пять человек тем, что едва доставало для десяти. Тетеньке доставалось за все: за неисправность прислуги, за то, что гости выпили много вина, за детей, которых она в тот день не видала в глаза; словом, мать кричала и наказывала не по мере надобности, а по мере проигрыша… По какому-то предопределению я всегда попадалась под первые порывы ее раздражительности. Раз, заметив меня в зеркало, перед которым тетенька чесала ей голову, она потребовала меня читать по-русски. Чтение началось; за каждую ошибку я получала толчок то в голову, то в спину. Слезы мешали мне читать, и я, как назло, делала ошибки на каждом слове. В бешенстве она, наконец, ударила меня так сильно по руке, лежавшей на книге, что книга полетела вверх, а рука моя хрустнула и, как гиря, спустилась вниз. Я взвизгнула и побледнела от боли.
Отец явно обрадовался горячности своей жены: он сам был удален от управления домом и детьми за свою вспыльчивость, а притом теперь ему представился случай попрекнуть жену страстью к игре, производящею такие последствия. Он начал осматривать и вытягивать мою руку; я горько плакала… Наконец он велел мне итти в детскую; я пошла, освободившись таким образом от чтения, но боль не помешала мне, уходя, слышать их разговор:
– - По-вашему, ей не нужно учиться читать?..
– - Да что ж за толк, если ты выучишь ее читать, а писать ей будет нечем?
Тут мать начала говорить очень скоро, и когда я подходила к детской, разговор их превратился в крики и слезы.
Этот-то роковой случай решил нашу участь. Родители положили нанять нам гувернантку. К несчастию, случай скоро представился. Одна знакомая дама отказала своей гувернантке за излишнюю грубость с детьми. Несмотря на страшное стеснение корсетом, которому подвергалась добровольно, с примерным самоотвержением, эта двадцатичетырехлетняя девица, говорившая, что ей двадцать один год, любила в обращении с детьми полную свободу: уши бедных малюток были всегда в крови; она нарочно отращивала себе средний ноготь и стригла его остроконечно, чтобы невинное наказание было чувствительней. Если корсет мешал ей поднять высоко руку, то она приказывала жертве становиться на колени, тянула за ухо или за волосы кверху и требовала, чтоб жертва приседала вниз. За ослушание наказание увеличивалось. Она брала линейку и делала наперед такое условие: если хорошо будешь подставлять ладонь, получишь десять ударов, если станешь хитрить -- двадцать.
Примерная строгость и одинаковый взгляд на воспитание покончили дело очень скоро: она была нанята за четыреста рублей ассигнациями в год учить всему, чему хочется, смотреть за нравственностью, как заблагорассудит, наказывать сколько душе угодно и как угодно; даже ей предоставлялось право, если окажется нужным, требовать на помощь лакея при наказании братьев, которые были довольно сильны… Для представления гувернантке нас вымыли, вычесали и приодели. Меня представили как лицо подозрительное, требующее неусыпного надзора и особенной строгости, выражаясь так:
– - Она совершенный мальчик, даже все с ними играет, а уж какая ленивица! Как за книгу, так и в слезы!
Гувернантка успокоила мать надеждой на мое исправление, сказав мне:
– - M-lle Nathalie, вы должны исправиться, а не то я буду наказывать вас вместе с мальчиками.
Физиономия гувернантки никому из нас не понравилась. Ее рыжие волосы были убраны с необыкновенной тщательностию, ее карие и злые глаза то быстро перебегали, то останавливались на одном предмете, как бы желая проникнуть его насквозь; ее большой рот беспрестанно улыбался, что придавало ее большому и круглому лицу, поминутно краснеющему и покрытому бесчисленным множеством веснушек и каким-то белым порошком, выражение злое и приторное. Талия ее превышала всякое вероятие: она была до того стянута, что ее плечи, довольно толстые и широкие, изобильно покрытые коричневыми веснушками, совершенно багровели и уподоблялись кускам сырой говядины.
Костюм ее был так же неприятен, как она сама. Ее руки, белые и мягкие, были обезображены синими ногтями и бесчисленным множеством колец и перстней, в которых, по тщательному разысканию одной из тетушек, изумруды и рубины оказались поддельными. Впрочем, такое открытие нисколько не помешало их дружбе; разные секреты и одолжения по части туалета совершенно погасили на время враждебные ощущения, возникшие в тетушках по поводу французского языка, знание которого составляло преимущество гувернантки. Мы заметили, что лица у тетушек также вдруг побелели…