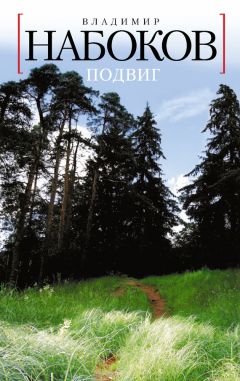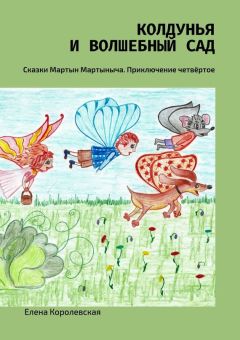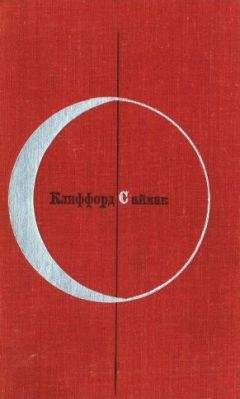Рано научившись сдерживать слезы и не показывать чувств, Мартын в гимназии поражал учителей своей бесчувственностью. Сам же он вскоре открыл в себе черту, которую следовало особенно ревниво скрывать, и в пятнадцать лет, в Крыму, это служило причиной некоторого мучения. Мартын заметил, что иногда он так боится показаться немужественным, прослыть трусом, что с ним происходит как раз то, что произошло бы с трусом, кровь отливает от лица, в ногах дрожь, туго бьется сердце. Признавшись себе, что подлинного, врожденного хладнокровия у него нет, он все же твердо решил всегда поступать так, как поступил бы на его месте человек отважный. При этом самолюбие было у него развито чрезвычайно. Коля, Лидии брат, был одних с ним лет, но худосочен и мал ростом. Мартын чувствовал, что без особого труда положил бы его на лопатки. Однако его так нервила возможность случайного поражения и с такой отвратительной яркостью он его себе представлял, что ни разу не попробовал вступить с Колей, с однолетком, в борьбу, но зато охотно принимал вызов Владимира Иваныча, двадцатилетнего корнета с мускулами как булыжники, через полгода убитого под Мелитополем, который жестоко мял его, ломал и после изнурительной возни придавливал его наконец, красного и осклабленного, к траве. А то случилось раз, что Мартын возвращался домой из Адреиза, где жила Лидина семья, ночью, летней крымской ночью, местами иссиня-черной от кипарисов, местами же бледной как мел от неживой белизны татарских стен против луны, и вдруг на повороте узкой кремнистой дороги, ведшей на шоссе, выросла перед ним фигура человека и густой голос спросил: «Кто идет?» Мартын с досадой отметил, что сердце забилось часто. «Э, да это – Умерахмет», – грозно сказал человек и слегка придвинулся сквозь рваную черную тень, скользнувшую по его лицу. «Нет, – сказал Мартын. – Пропустите, пожалуйста». – «А я говорю, что Умерахмет», – тихо, но еще грознее, повторил тот, и тут Мартын заметил при вспышке луны, что у него в руке крупный револьвер. «А ну-ка, становись к стенке», – проговорил человек, сменив угрозу на примирительную деловитость. Бледную руку с черным револьвером поглотила набежавшая тень, но точка блеска осталась на том же месте. Мартыну представлялись две возможности, – первая: добиться разъяснения, вторая: шарахнуться в темноту и бежать. «Мне кажется, вы меня принимаете за другого», – неловко выговорил он и назвал себя. «К стенке, к стенке», – дискантом крикнул человек. «Тут никакой стенки нет», – сказал Мартын. «Я подожду, пока будет», – загадочно заметил человек и, хрустнув камушками, не то опустился на корточки, не то присел, – в темноте было не разглядеть. Мартын все стоял, чувствуя как бы легкий зуд по всей левой стороне груди, куда, должно быть, метил невидимый теперь ствол. «Если двинешься, убью», – совсем тихо сказал человек и еще что-то добавил, неразборчивое. Мартын постоял, постоял, мучительно пытаясь придумать, что сделал бы на его месте безоружный смельчак, ничего не придумал и вдруг спросил: «Не хотите ли папиросу, у меня есть?» Он не знал, почему это вырвалось, ему сразу стало стыдно, особенно потому, что его предложение осталось без ответа. И тогда Мартын решил, что единственное, чем он может искупить стыдное слово, это прямо пойти на человека, повалить его, буде нужно, но пройти. Он подумал о завтрашнем пикнике, о залитых ровным рыже-золотым загаром, словно лаком, Лидиных ногах, представил себе, что, может быть, отец ждет его в эту ночь, может быть, делает кое-какие приготовления к встрече, и почувствовал к нему странную неприязнь, за которую впоследствии долго себя корил. Шумело и через одинаковые промежутки бухало море, заводным звонким стрепетом подгоняли друг друга кузнечики, а этот болван в темноте… Мартын заметил, что прикрывает ладонью сердце, и, в последний раз назвав себя трусом, резко двинулся вперед. И ничего не случилось. Он споткнулся о ногу человека, и тот ее не убрал. Сгорбясь, опустив голову, человек сидел, тихо похрапывая, и сытно, густо несло от него винищем.
Благополучно добравшись до дому, выспавшись и выйдя утром на увитый глициниями балкон, Мартын пожалел, что не обезоружил пьяного шатуна: отнятым револьвером он бы мог загадочно похвастать. Он остался собой недоволен, оказавшись, по собственному мнению, не совсем на высоте при встрече с давно желанной опасностью. Сколько раз на большой дороге своей мечты он, в бауте и сапогах с раструбами, останавливал то дилижанс, то грузный дормез, то всадника, и дукаты купцов раздавал нищим. В бытность свою капитаном на пиратском корвете он, стоя спиной к грот-мачте, один отбивал напор бунтующего экипажа. Его посылали в дебри Африки разыскивать Ливингстона, и, найдя его наконец – в диком лесу, в безымянной области, – он к нему подходил с учтивым поклоном, щеголяя сдержанностью. Он бежал с каторги через тропические топи, он шел к полюсу мимо удивленных, торчком стоявших пингвинов, он на взмыленном коне, с шашкой наголо, первым врывался в мятежную Москву. И уже Мартын ловил себя на том, что задним числом прихорашивает нелепое и довольно плоское ночное происшествие, столь же похожее на подлинную жизнь, которой он жил в мечтах, сколь похож бессвязный сон на цельную и полновесную действительность. И как иногда бывает, что, рассказывая виденный сон, мы невольно кое-что сглаживаем, округляем, подкрашиваем, чтобы поднять его хотя бы до уровня нелепости реальной, возможной, точно так же Мартын, репетируя рассказ о ночной встрече (который, однако, оглашать он не собирался), делал встречного более трезвым, револьвер его более действенным и собственные слова – более остроумными.
И в следующие дни, перекидываясь с Колей футбольным мячом или выискивая с Лидой в прибрежном галечнике мелкие морские курьезы (круглый камушек в цветном пояске, маленькую, зернисто-рыжую от ржавчины подкову, отшлифованные морем бледно-зеленые осколки бутылочного стекла, напоминавшие ему раннее детство, пляж в Биаррице), Мартын дивился ночному происшествию, сомневался, было ли оно, и все прочнее продвигал его в ту область, где пускало корни и начинало жить чудесной и самостоятельной жизнью все, что он выбирал из мира на потребу души. Нарастала, закипала пеной и кругло опрокидывалась волна, стелилась, взбегая по гальке, и, не удержавшись, соскальзывала назад при глухом бормотании разбуженных камушков, и не успевала втянуться, как уже новая, с тем же круглым, веселым плеском, опрокидывалась и прозрачным пластом вытягивалась до предела, положенного ей. Коля подальше зашвыривал найденную дощечку, и фокстерьер Лэди, поднимая враз передние лапы, прыгал по воде и напряженно пускался вплавь. Его подхватывала очередная волна, мощно несла и затем в полной сохранности выкладывала на берег, и фокстерьер, уронив перед собой отобранную у моря дощечку, круто отряхивался. Лида, – купавшаяся только по утрам, спозаранку, вместе с матерью и Софьей Дмитриевной, – отходила налево, к скалам (прозванным ею «Айвазовскими»), пока купались мальчики: Коля плавал по-татарски, кувырком, а Мартын гордился быстрым и правильным кролем, которому его научил англичанин-гувернер в последнее лето на севере. Ни тот, ни другой мальчик, впрочем, далеко не уплывал, – и одной из самых сладостных и жутких грез Мартына была темная ночь в пустом, бурном море, после крушения корабля, – ни зги не видать, и он один, поддерживающий над водой креолку, с которой накануне танцевал танго на палубе. После купания было удивительно приятно нагишом лечь на раскаленные камни и смотреть, запрокинув голову, на черные кинжалы кипарисов, глубоко вдвинутые в небо. Коля, сын ялтинского доктора, проживший всю жизнь в Крыму, принимал эти кипарисы, и восторженное небо, и дивно-синее, в ослепительных чешуйках, море как нечто должное, обиходное, и было трудно завлечь его в любимые Мартыновы игры и превратить его в мужа креолки, случайно выброшенного на тот же необитаемый остров.
Вечером поднимались узкими кипарисовыми коридорами в Адреиз, и большая нелепая дача со многими лесенками, переходами, галереями, так забавно построенная, что порой никак нельзя было установить, в каком этаже находишься, ибо, поднявшись по каким-нибудь крутым ступеням, ты вдруг оказывался не в мезонине, а на террасе сада, – уже была пронизана желтым керосиновым светом, и с главной веранды слышались голоса, звон посуды. Лида переходила в лагерь взрослых, Коля, нажравшись, сразу заваливался спать; Мартын сидел в темноте на нижних ступеньках и, поедая из ладони черешни, прислушивался к веселым освещенным голосам, к хохоту Владимира Иваныча, к Лидиной уютной болтовне, к спору между ее отцом и художником Данилевским, говорливым заикой. Гостей вообще бывало много – смешливые барышни в ярких платках, офицеры из Ялты и панические пожилые соседи, уходившие скопом в горы при зимнем нашествии красных. Было всегда неясно, кто кого привел, кто с кем дружен, но хлебосольство Лидиной матери, неприметной женщины в горжетке и в очках, не знало предела. Так появился однажды и Аркадий Петрович Зарянский, долговязый, мертвенно-бледный человек, имевший какое-то смутное отношение к сцене, один из тех несуразных людей, которые разъезжают по фронтам с мелодекламацией, устраивают спектакли накануне разгрома городка, бегут покупать погоны и никак не могут добежать, и возвращаются, радостно запыхавшись, с чудесно добытым цилиндром для последнего действия «Мечты Любви». Он был лысоват, с прекрасным, напористым профилем, но, повернувшись прямо, оказывался менее благообразным: под болотцами глаз набухали мешочки, и не хватало одного резца. Человек же он был мягкий, добродушный, чувствительный и, когда по ночам все выходили гулять, пел бархатным баритоном «Ты помнишь ли – у моря мы сидели…» или рассказывал в темноте армянский анекдот, и кто-нибудь в темноте смеялся. В первый раз встретив его, Мартын с изумлением и даже с некоторым ужасом признал в нем забулдыгу, приглашавшего его стать к стенке, но Зарянский, по-видимому, ничего не помнил, так что осталось неясным, кто такой Умерахмет. Пьяницей был Аркадий Петрович отменным и бушевал во хмелю, – но револьвер, который однажды снова возник – во время пикника на Яйле, в стрекотливую ночь, пропитанную лунным светом и мускат-люнелем, – оказался с пустым барабаном. Зарянский еще долго вскрикивал, грозил, бормотал, говоря о какой-то своей роковой любви, его покрыли шинелью, и он уснул. Лида сидела близко к костру и, подперев ладонями лицо, блестящими, пляшущими, румяно-карими от огня глазами глядела на вырывавшиеся искры. Погодя Мартын встал, разминая ноги, и, взойдя по черному муравчатому скату, подошел к краю обрыва. Сразу под ногами была широкая темная бездна, а за ней – как будто близкое, как будто приподнятое море с цареградской стезей посредине, лунной стезей, суживающейся к горизонту. Слева, во мраке, в таинственной глубине, дрожащими алмазными огнями играла Ялта. Когда же Мартын оборачивался, то видел поодаль огненное беспокойное гнездо костра, силуэты людей вокруг, чью-то руку, бросавшую сук. Стрекотали кузнечики, по временам несло сладкой хвойной гарью, – и над черной Яйлой, над шелковым морем, огромное, всепоглощающее, сизое от звезд небо было головокружительно, и Мартын вдруг опять ощутил то, что уже ощущал не раз в детстве, – невыносимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только и стоит жить.