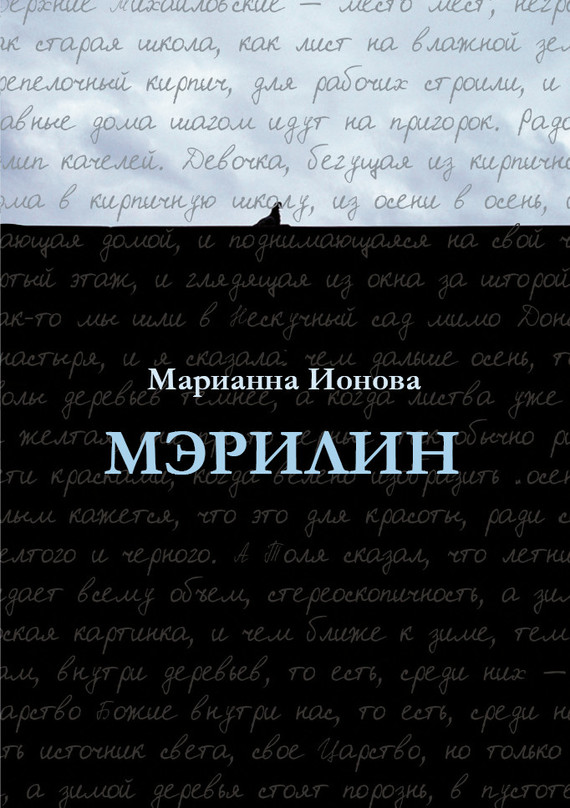куда глядел он, и увидела только вздутость на коре безымянного дерева, но вдруг бугор шевельнулся, и разлатая, будто в широкой накидке, птица с клювом-стручком взбежала по серпантину вверх.
– Надо же, мраморная, – сказала Мария.
– Подделывается под кору, – сказал Виталик. – Под древесный гриб.
С минуту они молча смотрели туда, где никого уже не было.
Они шли, тропка все выпрямлялась, скучнела. Молча. Идти в молчании после таких двух реплик было все равно что идти навьюченной. Подойдя к палисаднику, Мария обернулась. Виталик смотрел в сторону часовни, его ноздри по-детски слегка двигались.
– Вам тут нравится? – спросил он.
– Очень.
– И мне. Вы заходите, как будет время, к нам в мастерскую…
– Обязательно зайду, спасибо за приглашение.
Из окна комнатки на втором этаже были видны усадебные задворки с расползающимся, превращенным вековой небрежностью в сарай хозяйственным корпусом. Во тьме лес за ним стоял сценическим задником. Но Мария любила и задворки, и жалкую старость построек, и эту мрачную маску, надеваемую лесом для устрашения. Она все здесь любила так, будто родилась в этом доме, где сто лет никто не рождался, где большую часть XX века была станция дендрологов, а потом лечебница для нервнобольных.
Теперь в этой маленькой комнате Мария чувствовала себя дома, а у себя дома только что-то пережидала – потому, наверное, что здесь ничего не было. Не то чтобы Марию тянуло к аскезе – просто все Воскресенском принадлежало ей, а желать большего было бы неблагодарностью.
Здесь, и только здесь я живу цельно. Здесь все правильно, и я такая, как должно. Здесь и действие, и бездействие равно осмысленно. Здесь верится, что безмолвное житие настало, и даже не при полном безмолвии.
Тамара Антоновна за стеной вчитывается сквозь омуты линз в мелкие серые строчки собрания сочинений – обожаемый Достоевский, – а в комнате у Марии нет книг, нет ни радио, ни телевизора, только старый проигрыватель и пластинки. Конверты пахнут геранью. Вот на первом конверте, от давности замшевом, вздымается кудряво-резной орган. Две фуги: Баха и Букстехуде. Тамара Антоновна пластинки не присваивала и не помнила, чьи они изначально были. Кто сюда их принес? Многие состарились непоправимо, но не эта, с фугами. Мария ставила ее каждый вечер, когда оставалась на ночь во флигеле. Тихо и шершаво – все от возраста – поющий на разные голоса орган перекрывал редкий писк, посвист и уханье из-за окна. У Баха орган то твердил на один лад бесконечную проповедь, то кротко, стеклянно позванивал, а у Букстехуде он рвался и бился, осаждая закрытые врата, потом вдруг присмирялся и в раскаянии плакал.
Мария легла на застеленную пледом кровать, одну руку свесив, другую положив на грудь. У нее не было мыслей, только одна – смутная, едва ли похожая на мысль, скорее на ощущение, одетое первыми попавшимися словами. Еще много лет впереди.
В мирном море очень скоро наступал полный штиль, и кровать, точно плот, лишь слегка поворачивалась на одном месте, и мысль едва колыхалась: сколько еще лет пройдет, и дом будет стоять, и лес будет стоять, и она будет жить. Вот поднимется бриз и покатит ее по мирному морю, а вместе с ней на плоту усадьба, Москва, родные, Тамара Антоновна, Саша, Николай Мартынович, Виталик, Бах и Букстехуде…
Чтобы охватить всю больницу, нас разделили на две группы. Мы шли по отделениям, дьякон просил старшую медсестру собрать всех в столовой, мы пели рождественский тропарь, а потом дарили пациентам и персоналу иконку, молитвослов и шоколад.
– Которые не реагируют, им рядом на стол кладите, – предупредила сестра.
Ты к нам не повернулся, ты сидел с краю лавки и смотрел на дверь, словно кого-то ждал. Сомкнутые руки лежали на колене. Высокий, худой, седой, в черном тренировочном. Мы с девушкой-певчей оставили для тебя на столе.
Плотными волнами свиваются в макушку, как в раковину наутилуса, алюминиевые волосы.
Это отделение было в корпусе последним.
– А всех навещают? – спросила я медсестру.
Она помотала головой, будто раскачивала взгляд перед тем, как метнуть его в угол, где все еще сидел и кого-то будто ждал ты.
У домов есть крылья. У всего есть крылья.
Самолет в небе делает кувырок. Я клеил самолеты с крыльями под прямым углом, но раньше увидел Распятие. Раскинув руки, я прыгал в воду с самой высокой вышки, выныривал, и на воде загоралась искра, сброшенная чьим-то крылом. Золотое Распятие, выныривая из-за облака, скидывает мне искру.
– Он вроде бессемейный. К нам уже третий раз. Его соседи на улице ловят и приводят, мы подержим-подержим и выпускаем.
А я видел радугу через Яузу, выходящую из земли и уходящую в землю.
А мы видели славу Его, обитавшего среди нас. И мы видели друг друга. Старость, свет, утро, смех, река, дом.
– Гречищев Валентин Иванович, 1947 года рождения. Поступил две недели назад…
В этом отделении всех поздравили, священник и остальные идут в следующее, а меня сестра провожает к главврачу.
– Вообще-то мы с волонтерами не работаем…
– Дело в том, что я не совсем волонтер. Я этого человека знаю. Я, можно сказать, знакомая.
Но и нет такой сказки, чтобы мог ее рассказать мне ты и не могла тебе я.
И откуда ты все обо мне знаешь?
Как увидела тебя, сразу вспомнила, вот и ты. Начала издалека, прозондировала почву – не хотелось при всех показывать, что ты мне знаком. Медсестра говорит: что, жалко стало дедушку?..
– Зима на носу, а у него ни носков шерстяных, ни шарфа… Шапки вот тоже теплой… Гулять выводить, а в чем?
Сам-то он как, хочет? Гречищев? Его спросили? А его что спрашивай, что не спрашивай… Молчит? Апатия?
От главврача меня проводили в палату. Ты сидел на койке и всматривался в иконку св. Пантелеймона, держа ее обеими руками близко к глазам. «Он плохо видит?» – спросила я шепотом сестру, та пожала плечами, как бы отказываясь признавать за твоим поведением какую бы то ни было целесообразность.
– Если хотите, я принесу Евангелие, – сказала я тебе.
Безответно.
Вязать я не умею, поэтому купила темно-синий шарф, по словам продавца, «из стопроцентной альпаки».
– Ну вот, теперь курточку, и гулять можно, – одобрила сестра.
Под койкой нашлись ботинки, в которых тебя привели, справные и какие-то юношеские, но не щеголеватые. Евангелие в моей руке ты бережно проводил взглядом до тумбочки.
– Что надо сказать? – напомнила сестра патетично и пояснила в сторону: – Он иногда говорит.
Ты кивнул мне внимательно. Сестра принесла для меня