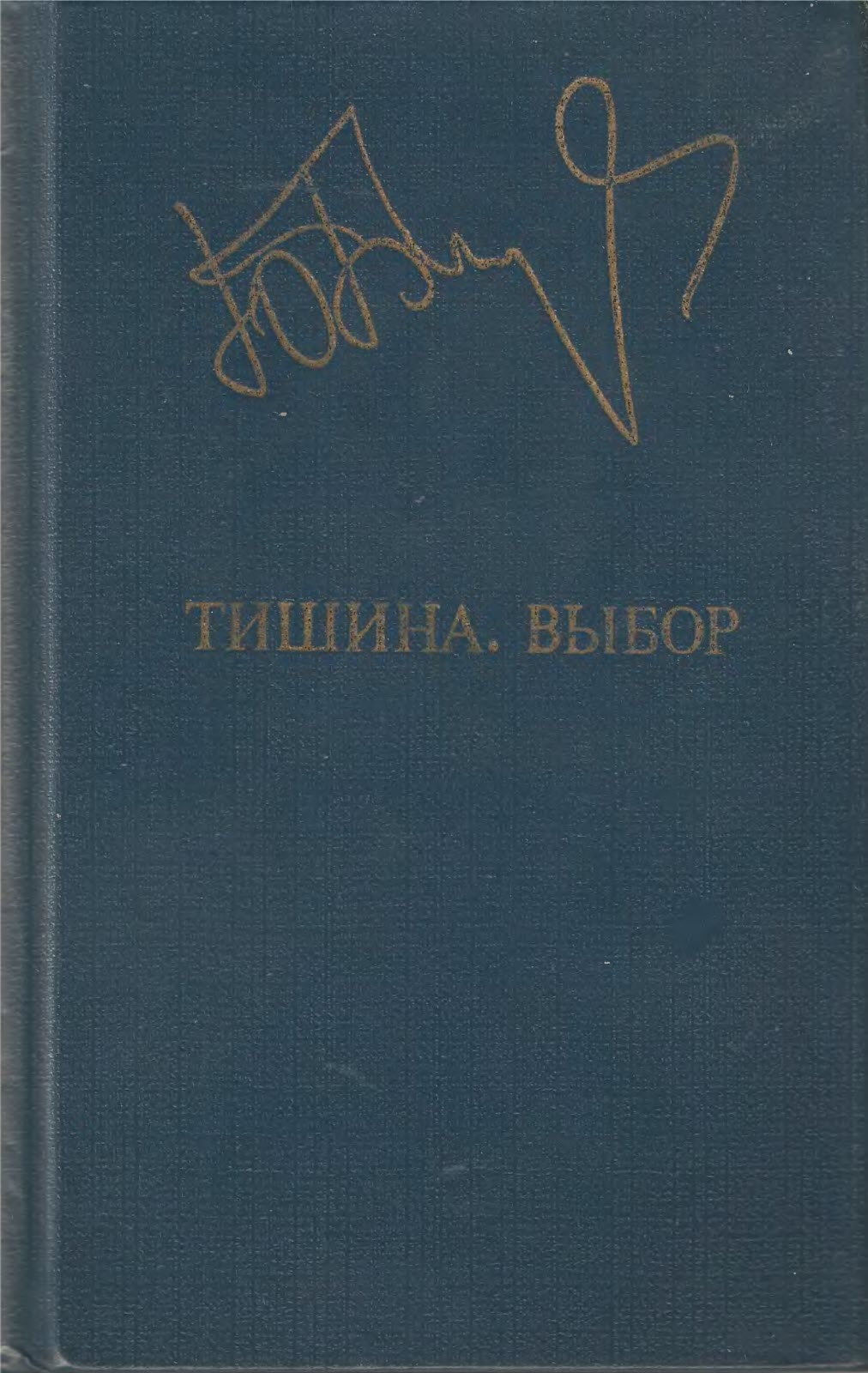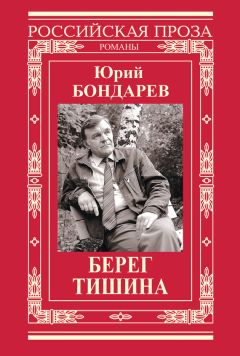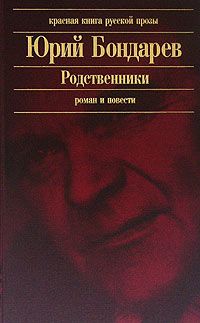понятиям «карточки», «лимит», «коммерческий магазин», «Тишинский рынок».
Константин, еще жуя, достал коробку «Казбека», придвинул Сергею, чиркнул зажигалкой-пистолетиком, закуривая, договорил по-домашнему:
— К вечеру у меня будет солидная пачка купюр. Вернут долг. Можешь часы не продавать. На шнапс бумаг хватит. Оставь часы для худших времен. Зачем тебе деньги, когда у меня есть?
— Надо купить костюм. Отцовский не лезет.
— Купим! Деньги — это парашют, дьявол бы их драл! — сказал Константин. — Пустота под ногами — и тогда открываешь парашют! — От выпитого вина смуглое лицо его стало дерзко-отчаянным. — На Тишинку поедем хоть сейчас. К спекулянтским мордам визит сделаем.
В его манере говорить, в его движениях ничего сходного не было с прежним аккуратным Костей — всегда умытым, застегнутым на все пуговички сшитой из теткиной юбки курточки, всегда приготовившим уроки, всегда детски красивеньким, чинно и пряменько сидевшим за партой. Был он робок перед учителями, жаден той особой жадностью прилежного ученика («свою резинку надо иметь», «задачу списывать не дам — сам решай»), которая постоянно раздражала Сергея. Они жили в одном доме, но прежде не были друзьями. Даже в десятом классе Константин ходил в своей аккуратной курточке, был замкнут, тих, нелюдим.
Они встретились полмесяца назад, и было странно видеть на Константине офицерскую шинель, спортивный пиджак с двумя нашивками ранений, с тремя орденами под лацканами и гвардейским значком, и странными казались как бы чужие темные усики. Он изменился так, как будто ничего, даже смутных воспоминаний, не оставалось от прежнего.
— Наш план на сегодня? — спросил Сергей, испытывая знакомое по утрам чувство легкости, оттого что жизнь вроде бы только начиналась.
— Рынок и танцы с девочками, — ответил Константин беспечно, спрятал часы в карман и тут же пропел задумчиво: — «О поле, поле! А что растет на поле? Одна трава — не боле. Одна трава — не боле…» Пошли… Асенька, привет! — крикнул он из коридора в кухню, когда, надев шинели, они вышли. — Плюньте на мелочи и берегите нервы! Сережка — известный бурбон!
Ася выглянула из кухни, озабоченно стягивая тонкой тесемочкой передник на муравьиной талии; темные длинные глаза скользнули по лицу Сергея беспокойно.
— Опять до ночи, Сережа?
— Как получится, — ответил он с нарочитой грубостью и поцеловал ее в лоб. — Я позвоню.
Двор без заборов (сожгли в войну) и весь маленький тихий переулок Замоскворечья были завалены огромными сугробами — всю ночь густо метелило, а утром прочно ударил скрипучий декабрьский мороз. Он ударил вместе с тишиной, инеем и солнцем, все будто сковал в тугой железный обруч. Ожигающий воздух застекленел, все жестко, до боли в глазах сверкало чистейшей белизной. Снег скрипел, визжал под ногами; звук свежести и крепости холода был особенно приятен после теплой комнаты, гудевшей печи.
Этот жестокий мороз с солнцем, режущий глаза сухой блеск были знакомы Сергею по сталинградским степям — наступали на Котельниково; звон орудийных колес по ледяной дороге, воспаленные лица солдат, едва видимые, из примерзших к щекам подшлемников, деревянные, негнущиеся пальцы в продутых стужей рукавицах; и снова скрип шагов, и звон колес, и беспредельное сверкание шершавого пространства… Хотелось пить — обдирая губы, ели крупчатый снег. Где же конец этой степи? Где? Он шагал как в полуяви, и представлялась ему парная духота метро, шумящие эскалаторы, лица, смех, а он ест размякшее эскимо, пахнущее теплым шоколадом… Очнулся от глухих, сдавленных звуков, вскинул голову, не понимая: рядом, держась за обледенелый щит орудия, толчками двигался заряжающий Капустин, сморщив обмороженное лицо, тихо стонал, всхлипывая: слезы сосульками замерзали на подшлемнике: «Не могу… не могу… Умереть лучше, под пули лучше, чем мороз».
Ничего этого не было сейчас. Вспомнилось же неожиданно— просто вдохнул задах холода, и всё возникло перед глазами. Вспомнилось тогда, когда он шел по улице бодрый, сытый, шинель, облегавшая его, хранила домашнее тепло, руки мягко грелись в меховых перчатках.
Дыша паром, плотнее натягивая перчатки, Сергей сказал:
— На фронте ненавидел зиму. После Сталинграда на передке возил с собой железную печку даже летом.
— «Мороз и солнце — день чудесный», — поглядывая по сторонам, пробормотал Константин. — Какую-нибудь машину бы, дьявола, поймать. Хорошо было дворянам раскатывать на тройках, под волчьей полстью! — Он похлопал себя по бокам, говоря быстро: — Я тоже под разрывными вспоминал милую старину. Тепло, настольная лампа, вьюга за окном, папироса и томик Пушкина… Сто-ой! — заорал он и махнул рукой. — Стой, бродяга!
«Эмка», плотно заиндевевшая от радиатора до крыльев, пронеслась мимо, покатила в глубину белого провала — улицы. Там, в конце этого провала, над снежной мглистостью, над мохнатыми трамвайными проводами висело оловянное декабрьское солнце.
— На кой тебе машина? — сказал Сергей, — Доберемся пешком. Потопаем по морозцу, Костька.
— В такую погоду хорошо ослам топать, — захохотал Константин, усики его поседели от инея, лицо, ошпаренное холодом, стало красным. — Идет себе и занимается гимнастикой ушей. Я, к сожалению, двигать ушами не в силах.
— Опусти ушанку. Не на полковом смотру.
— Иди ты… знаешь куда? Видишь, попадаются хорошенькие женщины. После войны стало больше красивых женщин… Я прав, девушка?
Константин ласково подмигнул бегущей навстречу по тротуару высокой девушке — полы длинного пальто колыхались, мелькали узкие валенки, под шерстяным платком — бело опушенные инеем ресницы, нажженные морозом щеки. Она не ответила, только улыбнулась и пробежала мимо.
Константин заинтересованно оглянулся, потирая ухо кожаной перчаткой.
— Природа иногда создает, а, Сережка? Иногда смотрю, и грустновато становится, ей-богу. Меня хватило бы на всех. — Он взглянул на Сергея оживленно. — Ладно, заскочим в забегаловку. Симпатичный павильончик. Тут, недалеко. Погреемся.
Деревянный павильончик, синея крышей, виднелся в аллее заваленного метелью бульвара. На пышных от вчерашнего снегопада липах каркали вороны, сбивали снег — белые струи стекали по ветвям. Забегаловка в этот утренний час была свободной, разрисованные морозом стекла сумеречно ее затемняли; кисло пахло устоявшимся табачным перегаром, холодным пивом. За стойкой, опершись локтями, в халате поверх пальто стояла широкая в плечах продавщица, игривым голосом разговаривала с молодым парнем, пьющим пиво, — шинель без погон горбилась на его спине, к столику прислонен костыль.
— Привет, Шурочка! — воскликнул Константин на пороге. — Холодище адово, а вроде посетителей нема! Один Павел тебя, что ль, тут веселит? А ну-ка налей нам по сто граммов коньячку для приличия!
— Здравствуй, Костя! На работку собрался с самого ранья? Мороз-то надерет сегодня…
Женщина, не без кокетства улыбаясь подкрашенными губами, зазвенела на мокрой стойке стаканами, повернувшись толстым телом, погрела ладони над огненной электрической плиткой, красными пальцами взяла коньячную бутылку. Парень поставил недопитую кружку, детски светлые глаза