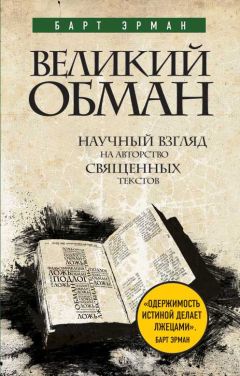сторону забора на соседних улицах и переулках люди захлопывают ставни. Оскверненную воду, что кипятится сейчас на плитах, после выплеснут в окно, бормоча заговоры для защиты от дурных снов. Затаив дыхание, город прислушивается к затихающему стуку колес и свисткам паровоза, и лишь когда они смолкнут совсем, все с облегчением вздохнут и отправятся по своим делам, с радостью избавляясь от мыслей о кошмарах, что обитают далеко на севере.
Вэйвэй принюхивается. Как же она тосковала по этому едкому запаху, по скрипу механизмов, по издавна знакомому чувству страха и восхищения, по шуму, настолько привычному, что его даже не замечаешь, пока он не прекратится! Все эти месяцы ее влекло к движению, к скорости точно так же, как тянутся к выпивке красноглазые пассажиры третьего класса – они хватают ртом последние капли и мгновенно приходят в бешенство, стоит бутылке опустеть.
Но вот поезд снова движется, и воздух дрожит от напряжения. Она слышала, как шепчется между собой команда: «Рано, слишком рано отправляться в путь. Почему бы не дождаться зимы, когда земля засыпает от холода и никакая опасность не может подстерегать тебя за деревьями? Летом же она просыпается, терзаемая голодом. Слишком рано, слишком рискованно».
Но не слишком рано для самой Вэйвэй. Впрочем, она ведь слишком любит рисковать, как обычно говорит Алексей.
«А кто в этом поезде не любит?» – отвечает в таких случаях она, и Алексею приходится признать ее правоту.
Все здесь уже наполовину безумны, все больны Запустеньем, не выразимыми никакими словами томлением и страхом, которые влекут их в Транссибирскую компанию. Те, кто слышит голос Запустенья, сидя в уютных городских домах, кто не в силах противиться зову могучего поезда. Они приходят в штаб-квартиру компании в Лондоне, или на Баньюнской дороге, или на Великой улице, стучат во всем известные деревянные двери и предстают перед неулыбчивыми седыми мужчинами, которые придирчиво их осматривают, требуя ответа на вопрос: почему вы считаете себя достойными этой чести? Большинству дают от ворот поворот. Немногих отобранных испытывают на чувствительность к пейзажу, способному повредить рассудок, заставляющему человека бросаться на решетку вагонного окна или кровянить пальцы о двери в тщетной надежде выбраться наружу. Если таких склонностей у кандидата не выявят, он получает темно-синюю униформу Транссибирского экспресса, контракт и Библию, на которой присягает в верности королеве. С этого момента он становится часть команды, частью компании, чьи владения простираются через половину мира.
Но с Вэйвэй все иначе. Она «дитя» поезда. Рожденная невесть где, вне пределов какой-либо страны, не под звездой какой-либо империи, она явилась в мир в тот самый момент, когда ее мать его покинула, в самом сердце Запустенья, на полу спального вагона третьего класса, глубокой ночью, когда обитатели равнин светились в темноте, подобно призракам. Плачущего младенца спеленали простынями с эмблемой Транссибирской компании и поручили заботам стюардов и поваров, а кормилицу нашли среди пассажиров третьего класса. Двумя неделями позже, когда поезд остановился у Русской Стены, девочка зашлась криком, потому что до сих пор не знала ничего другого, кроме непрерывного движения и шума. Представители компании в Москве не знали, как с ней поступить, поскольку никогда прежде не имели дела с внезапно осиротевшими младенцами. Ее мать скрывала свою беременность, а попутчикам заявила, что осталась одна в целом свете. Компания, не одобряя такую материнскую безответственность, сочла за лучшее вернуть девочку в Пекин первым же поездом и передать в заботливые руки китайского правительства.
Так вышло, что ее выхаживала, кормила и переодевала кормилица с помощью свободных от дежурства членов команды. Но когда поезд добрался до Пекина и капитан пришла за малюткой, чтобы передать властям, кочегары сообщили, что та приносит удачу и уголь в этом рейсе горит ярче, чем прежде. Кухонные мальчишки прибавили, что масло сворачивается именно так, как нужно, и пассажиры первого класса нахваливают кухню, чего прежде никогда не случалось. Ночные стюарды заявили, что им по нраву ее общество, что она с серьезным видом выслушивает их скабрезные истории и почти не жалуется. И тогда капитан произнесла (по крайней мере, так рассказывали самой Вэйвэй): «Если она сможет честно зарабатывать свой хлеб, то пусть остается. Но у нас в поезде нет лишних деталей. Она должна научиться приносить пользу, как все мы».
Первое время Вэйвэй служила талисманом. Спала в теплой кухне или в гнезде из брезентовых мешков в багажном вагоне, а иногда и прямо в будке паровоза, и машинисты рассказывали, как внимательно она смотрит на горящие угли, словно сознавая их важность для общего благополучия. Потом ее приспособили к доставке сообщений с одного конца поезда в другой, и к шести годам она превратилась в поездную мышь, снующую туда-сюда, – дитя всех сразу и ничье в отдельности. Ничье, кроме самого поезда.
– Бездельничаешь, Чжан?
А вот и Алексей, шагает вразвалочку, особой поездной походкой. Он ненамного старше Вэйвэй, но уже дослужился до первого механика. Закатанные рукава открывают сложные почетные татуировки, которые механики компании ставят себе на предплечья после каждого рейса. Знак братства (Вэйвэй ни разу не видела механика-женщину) и памяти. Рассказывая о прошлых рейсах, механики порой прикасаются к этим рисункам, вспоминая, как ломались рычаги и сами они едва выстаивали до конца смены. Шестерни и спицы превращались в условные символы на коже, помогающие вспомнить. Вэйвэй пытается понять, нет ли на руках Алексея отметок о предыдущем рейсе, но он замечает ее взгляд и опускает рукава.
Последние две недели они почти не виделись, хотя вся команда осталась на поезде, чтобы готовить его к отъезду, – механики и стюарды, кондукторы и повара, машинисты и кочегары, бесчисленные шестеренки механизма, заново притирающиеся друг к другу. Чуть проржавевшие, крутящиеся чуть медленней, со странными сбоями в давно знакомом порядке и откуда-то взявшейся нерешительностью, словно все они боялись сломать что-нибудь в излишней спешке. Когда Вэйвэй все же удавалось мельком взглянуть на Алексея, тот каждый раз куда-то спешил с неугомонной энергией, скопившейся за долгие месяцы бездействия.
– Первая проверка? – спрашивает она, чтобы заполнить тишину, и бросает взгляд на настенные часы: на две минуты раньше срока.
– Да, первая, – отвечает он.
День механика состоит из бесконечных проверок по неукоснительному распорядку, когда тщательно изучается каждый узел сложного механизма, подкрепляя тем самым уверения компании в полной надежности поезда.
– Их теперь вдвое больше… У нас не останется времени для себя.
Они говорят на особом поездном языке, причудливом смешении русского, китайского и английского, возникшем еще во время строительства дороги, хотя компания это не одобряет и требует пользоваться английским.
– Можно решить, что тебе не доверяют, – необдуманно говорит Вэйвэй и тут же замечает, как помрачнело лицо Алексея. – То есть я хотела сказать…
– Пустяки.
Взмахом