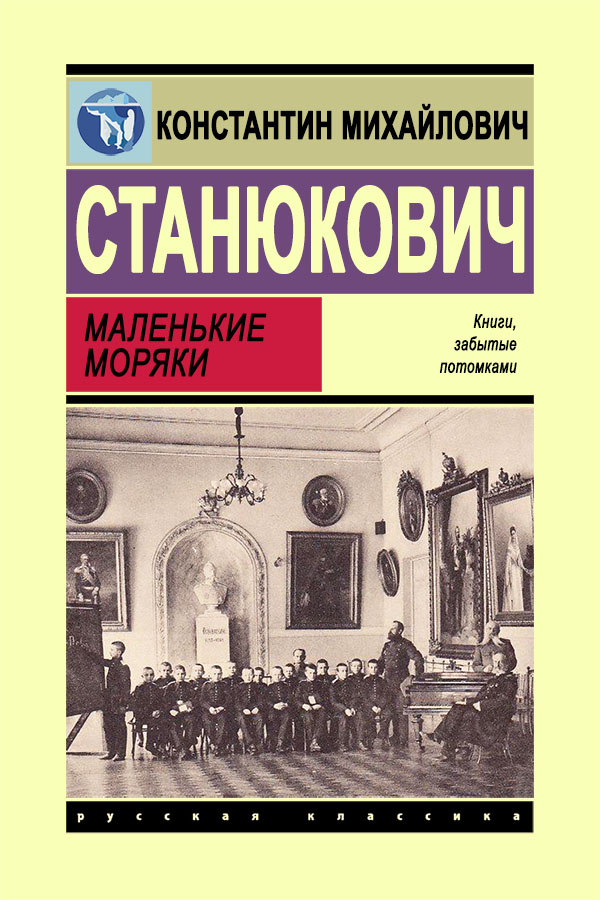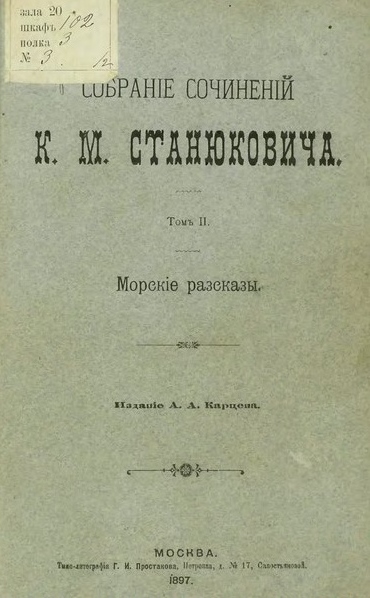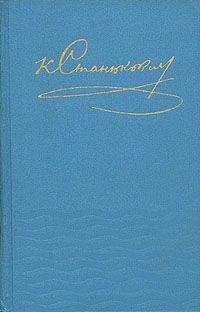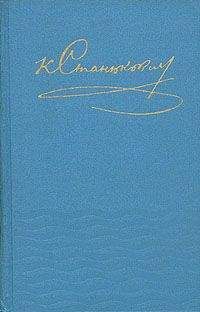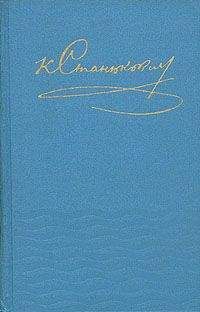доброго честного человека не было ни одного загубленного существа.
Мы вошли с ним в длинный коридор, по бокам которого были классы. Посередине коридор разделялся большим круглым пространством, освещенным сверху, называвшимся почему-то «пикетом» (вероятно, оттого, что там находился дежурный офицер), где, во время перемен, обыкновенно собирались преподаватели. Проходя «пикет», инспектор заметил маленького кадетика, стоявшего на пикете, очевидно, за какую-нибудь вину.
— Ты за что, Орехов? — спросил инспектор, подходя к маленькому белобрысому мальчику с бойкими глазами, который, при виде инспектора, тотчас же сделал постную физиономию невинной жертвы.
— Меня учитель выгнал из класса, Александр Ильич, — жалобно пискнул белобрысый кадетик, бросая на меня быстрый любопытный взгляд.
Инспектор нахмурил брови и казался сердитым.
— Вижу, что выгнал, а ты скажи-ка мне, братец, за что? — говорил он добродушно-ворчливым тоном, далеко не соответствовавшим напущенному им на себя строгому виду.
— Право, ни за что, Александр Ильич.
— Так-таки и ни за что!? А ты припомни: может, и напроказил, а?
— Я нечаянно толкнул товарища, Александр Ильич.
— Нечаянно!? — усмехнулся Александр Ильич, прищуривая глаза на кадетика. Ишь ты, какой неосторожный… Нечаянно! Ну, и тебя наказали нечаянно… Постой здесь, вперед будешь осторожнее… Да нечего-то жалобную рожу строить. Эка беда — постоять! — прибавил с добродушным смехом Александр Ильич и пошел дальше.
Через минуту мы вошли в первое отделение (или, как у нас звали, в первый номер) старшего кадетского класса [2]. При появлении инспектора человек тридцать в куртках с белыми погонами встали и в ответ на приветствие инспектора весело отвечали: «здравствуйте, Александр Ильич!» Поднялся сидевший за кафедрой и «француз», т. е. учитель французского языка, — плотный, высокий старик с эспаньолкой, усами и горбатым носом, — видимо не особенно довольный приходом инспектора. Инспектор приказал садиться и, показалось мне, что-то слишком пристально поглядел на очень красное лицо «француза». Затем он приказал мне сесть на заднюю скамейку, где было посвободнее, потрепал по плечу, выразив надежду, что я буду хорошо вести себя и хорошо учиться, и вышел, оставив меня одного под перекрестными любопытными взглядами незнакомых товарищей.
Едва вышел инспектор, как в классе поднялся шум. Все кричали «новичок, новичок!», не обращая ни малейшего внимания на учителя, то и дело кричавшего: «Silence, messieurs, silence!» [3] Наконец в классе наступила относительная тишина, и урок продолжался. У кафедры стоял высокий, здоровый малый лет семнадцати, «старикашка», как звали остававшихся в классе на второй год и пользовавшихся своей силой кадет, и переводил из хрестоматии с французского. Перевод этот так не соответствовал тексту и полон был такой импровизации, быстро поднявшей температуру веселости класса, что «француз», хотя и не был силен в русском языке, все же догадался, что стоявший у кафедры верзила издевается над своим учителем самым наглым образом. И он сказал довольно добродушно:
— Вы не знайт!
— Нет, знаю, — уверенно ответил импровизатор.
— На мест.
Но вместо того, чтобы идти на место, верзила с самым невинным видом, исключавшим, казалось, возможность подозревать какую-нибудь каверзу, подошел к несколько испуганному и тотчас же насторожившемуся старику-французу почти вплотную и начал было убедительно объяснять, что он урок знает и переводил хорошо, и что «Ляфоша» будет «свинья», если поставит ему менее восьмерки, как вдруг учитель, потянув носом, с гримасой отвращения бросился с кафедры к форточке и отворил ее, прошептав по-французски ругательство, при общем веселом гоготаний класса, в то время, как верзила торжествующе возвращался на скамейку.
Спустя минуту-другую француз вернулся на кафедру и с торжественно-решительным видом произнес:
— Silence, messieurs!
Все затихли.
— Господа… Chers messieurs! [4] Кто будет воняйт больше, тому баль меньше, а кто будет воняйт меньше, тому баль больше!.. Vous concevez! [5]
Признаюсь, я был донельзя изумлен такой оригинальной оценкой занятий французским языком, но никто из класса, казалось, не удивился, и в ответ на это предложение с разных сторон раздались голоса:
— Ладно, знаем!
— Небойсь, не любишь, французский барабанщик!
— Не сердись, Ляфоша… Больше не подведем. Форточку закрой.
Слегка выпивший учитель, кажется, уж не сердился и вызвал переводить другого, благоразумно попросив его переводить с своего места.
Потом оказалось, что бедный француз, не выносивший скверного воздуха, почти каждый урок повторял свои условия для получения хороших баллов, но и эти весьма легкие, казалось бы, условия хороших успехов далеко не всегда исполнялись кадетами, находившими какое-то жестокое удовольствие травить этого несчастного француза с тонким обонянием. И он терпел всевозможные дерзости и унижения, не смея жаловаться, чтоб не лишиться своего тяжелого куска хлеба, если б начальство узнало «систему» его преподавания. А эти отроки-кадеты в своих преследованиях учителей, не умевших поставить себя, были изобретательны, злы и безжалостны, как хищные зверьки.
Надо, впрочем, сказать, что этот «француз» в мое время был едва ли не единственным «педагогом», совсем не заботившимся о наших занятиях и которого так жестоко травили кадеты. Вообще персонал учителей по словесные предметам не пользовался особенным уважением, и все эти предметы были в то время не в большом фаворе, но все-таки учителей строгих, не оставлявших безнаказанными шалости, побаивались. Через год этот «француз» был удален из корпуса после того, как однажды он явился в класс, едва держась на ногах, и вскоре заснул на кафедре, усыпанный мелко нарезанными кусочками бумаги, с склоненной седой головой, увенчанной десятком торчавших в волосах перьев и грамматикой Марго на темени. В таком виде его застал инспектор классов.
Вскоре потом я встретил этого бедняка зимой на улице, плохо одетого, пьяненького, приниженного… Он отвернул от меня взгляд, полный не то ненависти, не то укора. Хотя я лично никогда не травил его, но во мне он увидал одного из тех «врагов», которые довели его до бедственного положения, и этого было довольно.
Кто был он, как попал в преподаватели — никто из нас хорошо не знал. Говорили, что он был французским барабанщиком (что не лишено было правдоподобия), затем был гувернером у какого-то генерала, который за него просил директора корпуса, и таким образом он попал в учителя по вольному найму и пробыл в корпусе учителем лет пять… Добросердечный А. И. Зеленой, верно, догадывался о слабости преподавателя, но едва ли знал, что с ним проделывали кадеты и как он преподавал. А может быть, кое-что и знал, но не обращал особенного внимания, тем более, что такому предмету, как французский язык, и само начальство того времени не придавало никакого значения, и он, собственно говоря, преподавался для проформы всеми нашими «французами». Таким образом, одна лишь случайность — внезапное появление инспектора в момент сна пьяного учителя — была, надо думать, единственной причиной