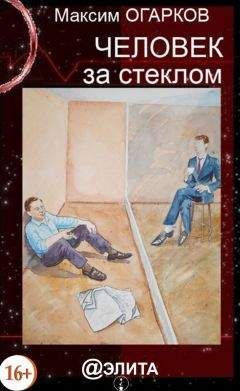рисунки, исчезли пассажиры и стены вагона... Вокруг был город. Диковинный город из ртутных параллелепипедов, вздымающихся к подёрнутому белым шумом небу. По тротуарам брели чёрные абстрактные фигуры с кубами вместо голов.
И звук из колонок.
Ржавый скрежет, тоскливый, пронзительный.
А над всем этим в небе парил медленно вращаясь чёрный куб. Куб испускал призрачные протуберанцы, которые хлестали по улицам города. Удары их заставляли улицы содрогаться помехами.
--Что это?-- Джульетта снимала экран своим мобильным телефоном.
--Не знаю. Просто это есть... И всегда было -- где-то рядом, может быть за дверью. И это -- не искусство, это ещё одна реальность, может быть более настоящая, чем наша. И если ты скажешь, что этот город надо тянуть в выставочный зал -- я выставлю тебя взашей.
--Но...
--Никаких "но". Это нельзя показывать. Понимаешь? Никогда.
--Не понимаю,-- Джульетта замотала головой,-- Хоть убей не понимаю. Да ведь никто и никогда не поверит, что ты это выдрал из обычной кассеты, подобранной на помойке. Это всё можно нарисовать в трёхмерке, наложить пару фильтров, шумы...
--Поэтому и нельзя. Будут какие-то люди пялиться в экран, тыкать пальцами, мол вот это вот освещение по Фонгу, а вон там текстура криво наложена, и вообще ребёнок лучше отрисует. А потом критики, ежели не соизволят разгромить в пух и прах с Фонгом и кривыми текстурами, начнут вести долгие беседы, что, дескать Григорий Маленков имел в виду то-то и то-то, что вот в этом кадре он развивает идею Малевича, а в этом... как его... вечно путаю. Короче, тоже Малевича, но в другой итерации. Тут постструктурализм, там Деррида с Фуко... дискурсы бродят, ризомы реют по ветру... мертвечина. Здесь ведь -- жизнь. Чужая, чуждая, такая, какую мы никогда не поймём и не примем, а они всё сведут к мертвечине... Ты, кстати, зря на мобилу снимаешь. В цифре всё равно ничего не останется.
Джульетта спрятала телефонную трубку в сумочке. На экране было шумящее небо над ртутным городом. По небу, казалось, пробегали волны, гоня к горизонту хаос тёмных частичек. Птицы-треугольники, выстроившись в замысловатую самоподобную фигуру, направились вслед этим волнам, источая скрипучее курлыканье.
--Я всё-таки заберу эту кассету. Ты не имеешь права запирать её в ящике стола.
--Имею и запру,-- Григорий встал -- росту он был почти исполинского, против него Джульетта казалась дюймовочкой.
Но в руке дюймовочки вдруг оказался пистолет. Маленький злой механизм, заряженный и приготовленный к стрельбе.
--Так, кончай валять дурака,-- скулы на лице Григория разом стали жёстче.
--Это ты дурак, Гриша. Ты сам-то знаешь, сколько за твои плёнки заплачено?-- сорвалась на визг Джульетта,-- Макс Каганович уже весь слюной изошёлся, так он торопится на них нажиться. И это притом, что он не знает, что у него уже плёночки-то перекупили его коллеги из Швейцарии.
--Бред какой-то. Отдай пистолет.
--Это ты бредишь. Сидишь в своём подвале с допотопной техникой, монтируешь лезвием и клеем, дивишься на кубы свои в небе. А жизнь идёт. Бегает, мальчик мой, таким бегом, что тебе даже не снилось. Ну чего ты хочешь? Денег хочешь? Будут тебе деньги, пивом своим, которое ты хлещешь -- упьёшься до конца дней своих. Бабу тебе надо? Видно же, что бабу надо -- будет тебе баба. Любая. Хочешь, сама дам?
--Дура ты. Чем светишь? Пиздой своей светишь? Ты думаешь, что я это,-- Григорий указал на экран, где прозрачные зиккураты вращались вокруг невидимой оси, пронизанные чёрными протуберанцами,-- на пизду твою сменяю. Да иди ты...
Выстрел -- невыразительный сухой хлопок.
Григорий удивлённо посмотрел на Джульетту, прошептал что-то неразборчиво, и осыпался на пол. Экран погас -- сработала перемотка. Джульетта подошла к столу, стараясь не смотреть на лежащее на полу тело. Её трясло, но даже перед самой собой она силилась не подавать виду.
На дисплее видеомагнитофона бежали цифры, неумолимо стремясь к пяти нулям, разделённым двоеточиями. Сейчас казалось, что они сменяют друг друга всё медленнее, что вот-вот замрут, и замрёт время и Джульетта тоже навсегда застынет в комнате с покойником и невероятной, никем не виденной вселенной на осыпающемся ферромагнетике старых плёнок. Но цифры бежали, и вот механизм, щёлкнув, остановился.
Выброс. Направляющие спрятали плёнку под крышкой, кассета поднялась над роликами и, влекомая фигурной рамкой, вылезла из магнитофона.
Джульетта подобрала её, оригинал -- даже не извлекая из адаптера, блокнот, спрятала всё в свою сумочку и направилась к выходу. За её спиной снежили экраны. Перед ней была большая и прекрасная жизнь, какую можно было позволить себе за счёт прозорливых коллег Кагановича. Джульетта закрыла за собой двери и, спускаясь по лестнице, принялась выискивать в телефонном справочнике нужный номер. Невнятный интерфейс раз за разом заставлял её промахиваться мимо искомой записи, и она, проклиная худшими проклятиями разработчиков мобильного софта, тискала плоские клавиши, надеясь, что очередная её комбинация приведёт к желаемому результату. Номер нашёлся уже когда Джульетта была на улице. И только в этот момент она увидела, что телефон потерял сигнал и находится в режиме поиска сети.
Ртутные параллелепипеды, вздымающиеся к штормящему гауссовым шумом небу. Треугольные фигурки кружатся в тяжёлом мутном воздухе. По фрактальным тротуарам шагают силуэты с чёрными кубическими головами.
Джульетта, парализованная, непонимающая, смотрит. На геометрию взаимопроникающих призраков, танцующих вокруг. На угловатые механизмы, движущиеся по идеально чёрным улицам. На куб, висящий над ртутным городом.
Джульетта, испуганная, онемевшая, слышит. Как шумит небесный прибой. Как скрипят крылья птиц-треугольников. Как трещат протуберанцы, исходящие из чёрного куба.
Джульетта оборачивается, в надежде найти дверь в подъезд Григория. Общество покойника теперь не кажется ей таким пугающим, как то, что происходит вокруг.
Ртутная плоскость. Тьма, отливающая ядовитым серебром.
Джульетта видит свои руки. Гематитовые сегменты сгибаются и разгибаются.
Параллелепипеды. Треугольники. Фигуры. Куб над городом.
Скулы Григория. Огрызок карандаша, пляшущий над истрёпанным блокнотом. И, где-то совсем уж далеко, в глубинах памяти: жёлтые лучи солнца, пробивающиеся сквозь зелень. Бархатная трава в низках росы. Свет. Тень. Огромный мир, застывший, незыблемый, в котором время несущественно, в котором нет ни смерти, ни зла.
Джульетта плачет. Её слёзы срываются со щёк и падают на антрацитовую мостовую, сверкая размытыми бликами. Чёрные треугольники садятся вокруг неё, скрипят, щебечут, щёлкают, но Джульетта их не видит. Она видит асфальт, расчерченный разноцветным мелом для игры в "классики", шайбу, сделанную из упаковки зубного порошка, и, почему-то, зелёные каштаны.
Там, среди изумрудного бархата, мелков и секретов, спрятанных под осколками стекла, деньгами служат листы подорожника, там нет кагановичей, швейцарцов и закрытых просмотров. Там никто не носит часов,