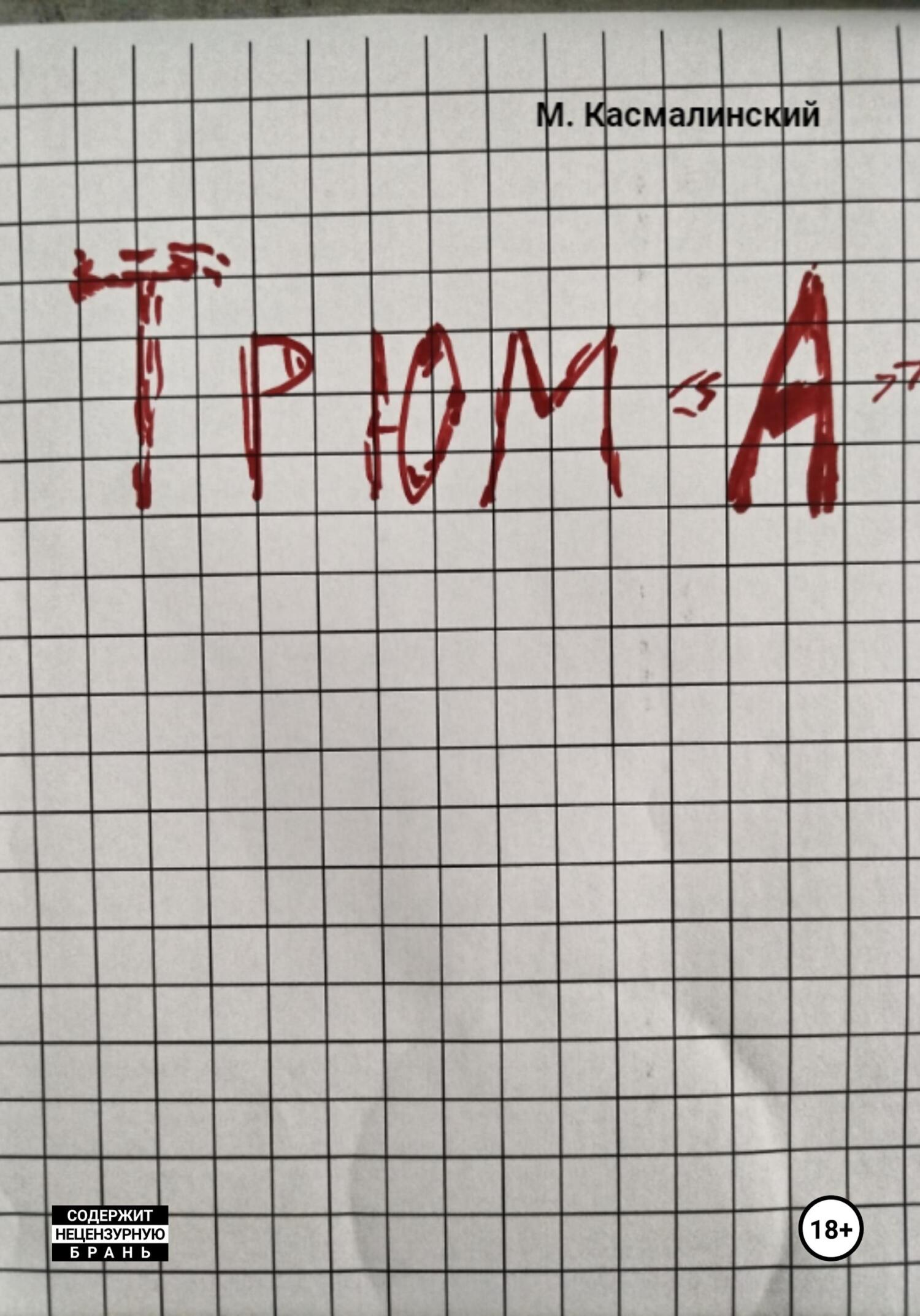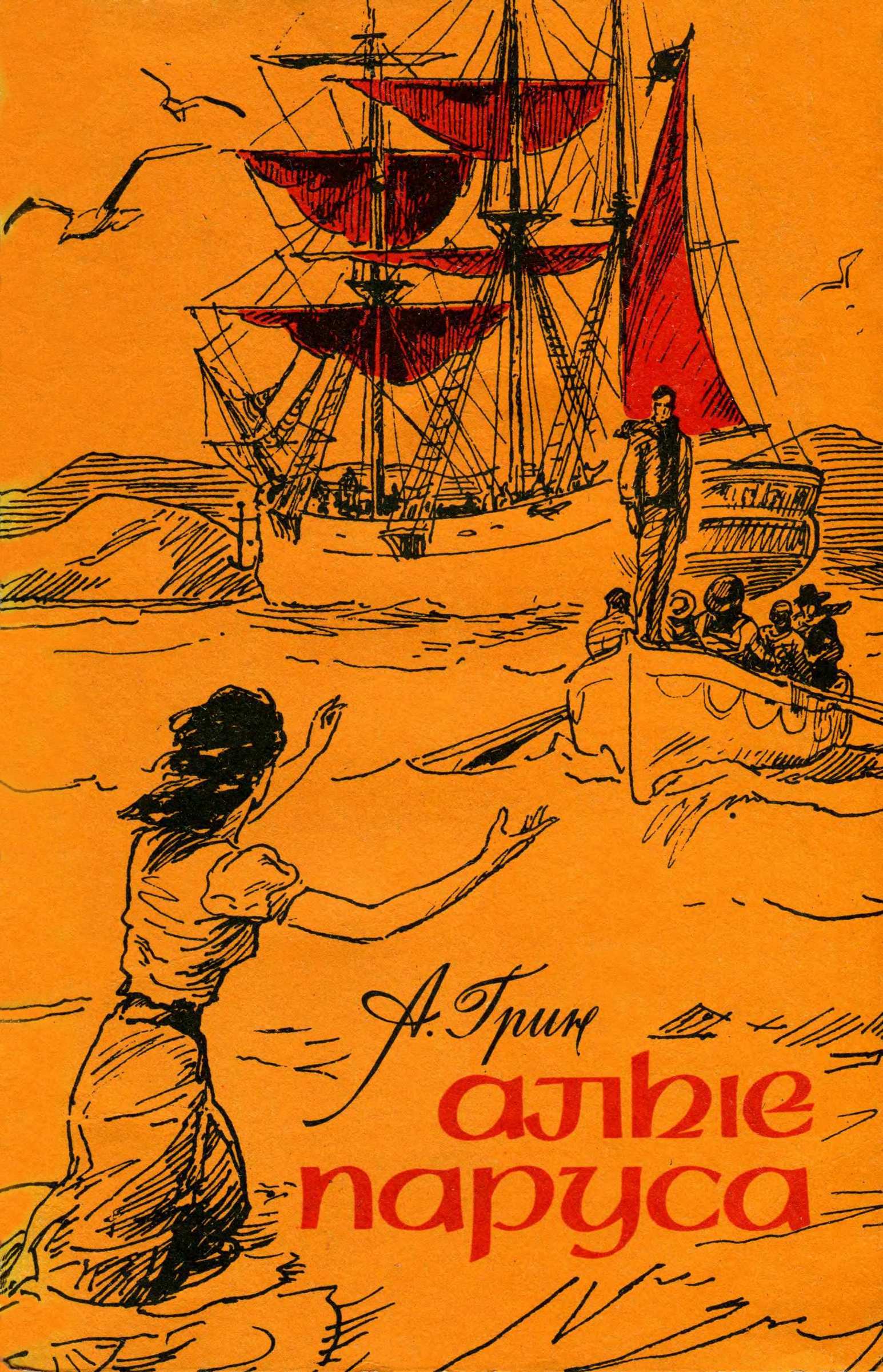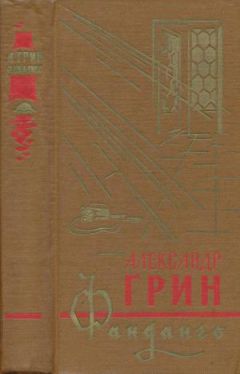к сроку, а? Голова садовая — вбухал пятнадцать рублей на тряпку.
— Вот беда! — Биркин презрительно сощурил глаза. — Твои, что ли? Зато фасонисто, эх! Пойду козырем по бульвару — девки честь отдавать будут. Ну… и… на случай смертельного декофта тоже не худо — вещь! Пять рублей можно… за пять рублей везде продать можно.
Вечная, неутомимая зависть Биркина к воспитанникам всех мореходных классов в России была его слабостью и бичом. Завидовал он, впрочем, не возможности каждого ученика стать штурманом, помощником и даже, при счастье, — капитаном, а красивой форме — бушлату, т. е. пиджаку с золочеными якорями и пуговицами. Все жалованье этого матроса неизменно попадало в руки людей двух категорий: трактирщиков и портных. Портные шили Биркину щеголеватые брюки, жилеты с якорями на пуговицах, а сдача, после приобретения всех этих восхитительных предметов, пропивалась в компании пароходных забулдыг, с треском и дымом, с участками и скандалами.
— Вот я, — заявил Бурак, — бывал в самых критических положениях. Я держал такие декофты, что ежели иной увидит во сне, так семь раз мокрый проснется. Но боже меня сохрани продать хотя пуговицу! Напротив, — всегда почищусь, ботинки блестят, причесан скандебобром [10], хотя бы что! А никто не знает, что, может быть, вторые сутки мои зубы без всякого утешения.
— Работал? — осведомился Скуба.
— Работал! — передразнил Бурак. — Так же, как и ты! Когда знакомые пароходы стояли в Одессе, я не тужил. Я жил, как поп, у меня знакомств больше, чем у тебя волос на голове. Я пил утренний чай на «Олеге», завтракал на «Рассвете», обедал, скажем, на «Веге», чистил зубы на «Кратере», кушал вечерний чай на «Гранвиле», а спал на дубке «Аксинья». Впрочем, его недавно прихватило с черепицей под Гирлами и, так сказать, повредило челюсти.
Бурак щеголевато плюнул и снисходительно посмотрел на товарищей. Левый его глаз выражал уважение к своему таланту жить по-воробьиному, правый совсем закрылся от восторга и открылся только при словах Скубы:
— А все-таки ты дурак.
— Это почему? — мирно осведомился апостол декофта. — Как могла эта несообразная мысль прийти в твою несоразмерную голову?
— Очень просто. Ты не умный человек.
— А ты умный?
— Я, брат, вполне умный, потому что мне выпить хочется.
— Эге! Ты, Скуба, я вижу, совсем балда. Такого-то разума у меня все трюмы полны.
— Чего налить вам? Пива или вина? — насмешливо спросил Мартын. — Подходи к чайнику!
— Позвольте! — откашлялся Скуба. — Вы, Мартын, с вашей репутацией, не тревожьте свою особу. Тут дело серьезное. Есть афера.
— Верно, есть! — вполголоса подтвердил Биркин. — Десять бочек с хересом в Новоросс…
— Тссс… сс… — зашипел Мартын, облизывая губы и оглядываясь на каюту боцмана. — Чего кричать, ну? Чего шуметь! Люди спят, а ты галдишь!
Взглянув еще раз на полуотворенную дверь каюты, Мартын уперся в стол подбородком, выпятив вперед бороду, и пронзительно зашептал, сверкая исподлобья острыми, ярославскими глазами:
— Взял трубку себе. Сам видел, как старый хрен вытащил трубку из-за божницы и сунул в карман, когда спать ложился.
Три тяжелых вздоха прорезали воздух единодушно и выразительно. Медная трубка, специально приготовленная для высасывания вина из бочек, оказывалась за пределами досягаемости, и в руках заговорщиков находился только буравчик, годный, конечно, для сверления дыр, но совершенно ненужный в качестве насоса.
Молчание было тягостное и непродолжительное. Биркин встал, повел плечами, взял в рот конец ленты от шапки, пососал ее, потом выплюнул, протянул руку и шепнул, указывая на каюту:
— У боцмана штаны есть?
— Нет, — серьезно ответил Бурак. — Он в юбку наряжается, да ведь…
— Мельница ты! — укоризненно перебил Биркин. — Снял он их, или нет?
— Агу! — крякнул Мартын. — А разве…
Биркин на цыпочках шмыгнул в дверь каюты, подкрался к боцманской койке и спокойно вытащил трубку из брюк, висевших на гвоздике. Вернувшись, он увидел три багровых от прыскающего смеха физиономии и многозначительно хмыкнул.
Мартын просиял и даже загорелся от нетерпения. Скуба взглядывал поочередно на него и Бурака, мурлыкая небезызвестную песенку:
Прекрасно создан божий свет.
Мы в нем набиты, как селедки.
Но совершенства в мире нет —
Бог создал море не из водки!
— Мартын — ну? — спросил Биркин.
В тоне, каким это было сказано, заключалась масса вопросов: пить или не пить, идти всем сразу или по одному, или же нацедить в чайник и принести сюда. Эгоистический характер Мартына, однако, быстро решил все: он встал, надел шапку, молча взял трубку из рук Биркина и прошептал:
— Разве мы будем жадничать или торопиться? Как, значит, я открыл местонахождение трубки, — то пойду пососать, скажем, я. А потом по очереди.
— Возьми Бурака, — предложил Скуба. — Я знаю твою повадку: будешь целоваться с бочкой до самой гавани… если тебя за ноги не оттащить. Бурак — смотри за ним в оба — он обручи ест!
Последние слова догнали Мартына в тот момент, когда пятки его исчезали в отверстии люка. Бурак подождал немного и выскочил вслед за ним. В кубрике стало совсем тихо; спящие не шевелились, храпя и посапывая.
Биркин и Скуба, оставшись одни среди спящих, хлопнули друг друга по плечу и осклабились. Дело шло на лад. Тишина и мрак вполне благоприятствовали задуманному. Биркин осторожно нашарил рукой угол трюма, затем, подвигаясь дальше, коснулся железа, — это был тяжелый, висячий замок, соединяющий петли железных полос, охватывающих трюм. Скуба стоял сзади, тревожно прислушиваясь и ежеминутно вздрагивая, — дело было не шуточное. Биркин долго возился, осторожно вкладывая ключ; наконец, пружина щелкнула, освободив болт, — и матрос спешно отвернул брезент, вытаскивая одну из деревянных крышек, ближнюю к краю. Скуба подхватил ее, держа на весу. От волнения ему сделалось жарко, он тяжело и глубоко дышал, жалея, что нет водки или спирта, жидкостей, уничтожающих страх. Биркин сказал:
— Фонарь!
— Держи!
— Закрой меня моментально, без всяких следов, и вались в кубрик, на койку, слышь? Будто дрыхнешь. Я копаться не стану, обождав минут десять, открывай, я тут буду.
Биркин изогнулся, протиснулся в небольшое отверстие и, держась руками за борт трюма, отыскал ногой трап. Скуба нагнулся и услышал в темноте шорох спускающегося человека. Тогда матрос быстро поставил крышку на место, закрыл брезентом, привел болт в прежнее положение, не запирая замка, и, облегченно вздохнув, на цыпочках удалился к кубрику. Здесь постоял он несколько мгновений, прислушиваясь к доносящемуся снизу храпу спящих товарищей, потом спустился, лег на свою койку и натянул одеяло до самых ушей, возбужденный и восхищенный верным успехом.
Совершенная темнота, полное одиночество и наглухо закрытый вверху люк привели Биркина