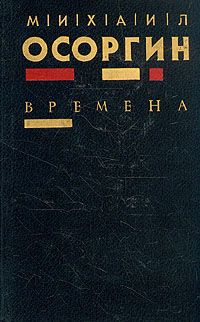Из великих революционных принципов, посеянных по русской земле, заглушены были скоро всходы свободы, но хорошо уродилось равенство — в благосостоянии и в рабстве. Единицы процвели особо, обеспечив будущему новое дворянство, но в общем жизнь создала желанное поравнение. Если класс неимущих выиграл мало, то стремительно к его уровню скатились те, кто раньше жил на его счет. Кто не успел бежать, прихватив свое добро в легконосных ценностях, тот попал под великий закон поравнения. Из богатых квартир, не очищенных прямыми мерами, потекло на базары и в хитрую деревню накопленное и сбереженное, стала торговкой бывшая барыня, теперь гражданка, деньги утратили ценность, отпали титулы, попряталась голубая кровь, и кто мог, называл себя детищем прохожего солдата и покрытки[51], потомком крепостных дедов. Всех равно одолели голод, холод, вошь, заползшая за воротник, крыса, хотевшая быть сотрапезницей. Равны стали и в одежде, с одинаковым за плечами мешком, слабосильные с санками или детской колясочкой — на случай пайковой выдачи или неожиданной продовольственной поживы. Мешки срослись с телом, люди стали сумчатыми. Если кто мог одеться лучше других воздерживался, боясь косых взглядов; если мог лучше поесть — скрывал, ревниво пряча съестное, жуя его в одиночестве и в темноте, чтобы не подсмотрел сосед в щелку. Уравнялись и в возможности попасть под карающую руку за дело, без причины, в общей облаве, по дружескому доносу или просто зря, по шутке неудачливой своей судьбы, по силе принципа: «Лучше казнить десять невинных, чем оправдать одного виновного» — так перекроили знаменитую фразу Екатерины Второй, специалистки по показной гуманности. Кто похитрее, поспешил опроститься и стать незаметным, кто половчее пристраивался в новых учреждениях, росших как грибы в дождливое лето. В новом строе, уничтожившем былое чиновничество, всякий, кто мог, становился чиновником, советским служащим, ответственным, рядовым, преданным или притворщиком, только бы числиться трудовым элементом и получать свою долю селедок, моркови, повидла, листовой резины на подметки, махорки, в которую подкладывался душистый колосок — и получалась едва ли не гаванская сигара. Старые ученые с мировым именем, философы, врачи, нестроптивые писатели стояли в очередях у лабазов за получением академического пайка, усиленного лошадиной ногой или ребром: пшено, клюква, что-то вроде чая с запахом кофея, мука, горстка сахару — и непременно селедка, превосходная русская соленая селедка, великое спасение от голодухи и гибели, — ей бы, благородной рыбе, поставить бы памятник! В обмен на селедку можно было получить все, что еще не совсем исчезло, ею можно уплатить долг и обеспечить себе новый заем. Селедки поедались в виде натуральном, в вареном, в жареном, их коптили в самоварных трубах, чтобы иметь запас, не подверженный порче. И еще вобла, золотая вобла, порою с червоточиной; воблой кормили в тюрьмах, на первое блюдо в супе, на второе вынутой из супа разваренной трухой. Под селедку и воблу страстно хотелось водки, но монопольные заводы не работали, запасы были выпиты и вылиты революцией, и ловкачам оставалось гнать сивушный самогон. Пили денатурированный спирт, но от него слепли, если не догадывались процеживать его через уголь противогазовых масок. Привычные пьяницы пробовали пить бензин и керосин; фармацевты делали богатые дела, отпуская знакомым малыми флакончиками зубной эликсир, эфирно-валериановые капли и все, что приготовляется на спирту для наружного употребления, теперь для внутреннего. Смельчаки пили одеколон, — и в людских скоплениях, в очередях и на базарах пахло тонкими духами и разило эфиром.
Два явления развивались параллельно: небывалый раньше эгоизм — в дружных прежде семьях один прятал от другого кусок, садились за стол со своими съестными сбережениями, косились на материнскую и сестринскую тарелку, укрывали в кармане луковицу, ссорились из-за неравной порции. И в то же время сторонний человек, видя нужду другого, подкармливал его, лишая себя последнего. Рискуя жизнью, укрывали гонимых, хлопотали за арестованных, простаивали в длинных хвостах у тюремных канцелярий с кулечками для своих и чужих узников. Одни спасали свою шкуру любыми мерами, от вилянья хвостом до прямой подлости, другие — шли на проклятие для ближнего и дальнего. Всякая жизнь была подвижничеством, и кличка «товарищ», одним ставшая ненавистной, для других звучала священно.
И еще было одно, что трудно объяснить человеку, не пережившему в России тех дней. И торжествующих, и от их торжества пострадавших объединяла вера в то, что все эти страдания, лишения, вся нищая суета жизни, все это лишь временно, лишь страшный переход от прошлого к будущему. От революции пострадав, революции не проклинали и о ней не жалели; мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненависть новые властители, но не дело, которому они взялись служить и которое оказалось им не по плечу, — дело обновления России. В них видели перерядившихся старых деспотов, врагов свободы, способных только искажать и тормозить огромную работу, которая могла бы быть — так нам казалось — дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, верили или хотели верить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращении гражданской бойни, мешавшей успокоению и питавшей террор. Может быть, ошибались, но думали так. И по мере сил, каждый в своей области, старались наладить и личную и общественную жизнь на совсем новых началах, раньше недоступных. Наладили ли — не знаю. Отсюда, из Европы, Россию не поймешь. Я не видал ее почти двадцать лет. Сыновнее сознание не мирится с тем, что тамошние люди жили и живут в политической духоте, в ставшем привычным подданстве и робком послушании. Старшие приспособились (или лгут? или притворяются? или переменились?), младшие ничего другого не знали, никакими идеями свободы не заражены; от иного мира отделены непроницаемой и непролазной стеной запретов. То, что нам казалось и было важнее и дороже жизни и посейчас кажется — вот хотя бы возможность эти слова сказать, написать, где-то напечатать, — им то чуждо, незнаемо, незнакомо, непотребно. У курицы какие-то предки, вероятно, летали, но она не мечтает ни о полетах, ни о плаванье. Животные в подземных пещерах, никогда света не видавшие, лишены зрения. Рабочий муравей, раб коллектива, безличная машина, не вспоминает об атрофированных органах, не знает силы пола, и он, по-своему, может быть счастлив. Жаль людей суженного кругозора и ограниченных духовных запросов, кастратов мысли, но если цель жизни счастье, то возможно, что новые поколения счастливее нашего; мы целью жизни считали не счастье, а широту и благородство духовных стремлений, возможность их развивать и им следовать. Мы могли ошибаться, но тогда какая прекрасная ошибка! Стоит ее всегда повторять, стоит и умереть, ей не изменяя.
В двадцать первом году мы, жители столицы, видели в неспокойных снах, будто горстями едим сахар и ломтями малороссийское сало; проснувшись, заедали горячий настой брусничного листа черным хлебом с привкусом пыли и плесени. Великой хозяйственной изворотливостью появлялась за обедом гречневая каша, хоть и без масла, но все же сносное питание. Иной делал чудеса: выкармливал в чулане поросенка, вскакивая по ночам взглянуть, не взломана ли дверь кем-нибудь из добрых соседей; у других на кухне, под столом, сидела на яйцах курица. На улице солдат-дезертир, побывавший на юге, показывал знаками проходящей хозяйке, что у него есть за пазухой нечто редкостное, — и хозяйка шмыгала с ним в чужие ворота или темный подъезд, где солдат распоясывался, извлекал из обмоток размякший шоколад, из шаровар мешочки с крупой; деньгам солдат предпочитал обмен на белье, на штатскую пару, на золотое колечко — торговля была сложна, опасна, все передавалось с оглядкой, из полы в полу. На базарах, которые то поощрялись, то оказывались незаконными и подвергались облавам, шел тот же сложный обмен буржуазного барахла на масло, картошку, пшено; высшей ценностью были сапоги, на них можно было запастись мукой на всю зиму; но неплохо котировался и будильник, треск которого нравился наезжавшим из деревень крестьянам. Толстая баба прикидывала на свой стан кружевную кофточку разорившейся барыни; бывший чиновник не соглашался дешево отдать граммофон. Вдруг появлялся отряд милиции, и все бежали, стараясь унести свое добро, давя друг друга, проклиная свою горемычную судьбу.
Мы голодали, но это был шуточный голод: от него худели, хворали, но умирали не так часто. Настоящий голод был в приволжских губерниях, пораженных неурожаем, и описать его нельзя, хотя и пытались многие. Там начисто вымирали деревни и села, и дороги между ними зарастали травой. Там были съедены пощаженные засухой листья деревьев, содрана и сжевана мягкая кора, истреблены крысы, белки, хорьки, лягушки, сверчки, земляные черви. Лучшим хлебом считался зеленый, целиком из лебеды; хуже — с примесью навоза, еще хуже — навозный целиком. Еще ели глину, и именно тогда было сделано великое открытие «питательной глины», серой и жирной, которая водилась только в счастливых местностях и была указана в пищу каким-то святым угодником. Эта глина насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки, и так человек мог прожить целую неделю, лишь постепенно слабея. Обычная глина, даже если выбрать из нее камешки и песок, насыщала навсегда, от нее человек уже не освобождался и уносил ее, вместе с горькой жалобой, на тот свет для предъявления великому Судие. Но великий Судия только досадливо отмахивался: он был завален серьезными делами о людоедстве, слух о чем докатился до Европы, кушавшей тартинки и отвергавшей Россию и русских за военную измену и за революцию. С ужасом и презрением писали о «случаях каннибальства», не зная, что это были уже не случаи, а обыденное явление и что выработалось даже правило сначала есть голову, потом потроха и лишь к концу хорошее мясо, медленнее подвергавшееся порче. Ели преимущественно родных, в порядке умирания, кормя детей постарше, но не жалея грудных младенцев, жизни еще не знавших, хотя в них проку было мало. Ели по отдельности, не за общим столом, и разговоров об этом не было.