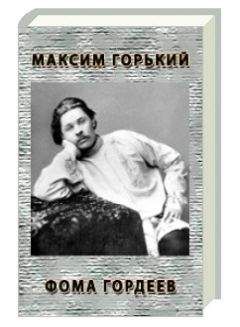— Экое вы — чудовище! Вот что — драться дико... скверно, извините меня... Но, скажу вам, — в данном случае вы выбрали удачно... Вы побили развратника, циника, паразита... и человека, который, ограбив своих племянников, остался безнаказанным.
— Вот и слава богу! — с удовольствием выговорил Фома. — Вот я его и наказал немножко...
— Немножко? Ну, хорошо, положим, что это немножко... Только вот что, дитя мое... позвольте мне дать вам совет... я человек судейский... Он, этот Князев, подлец, да! Но и подлеца нельзя бить, ибо и он есть существо социальное, находящееся под отеческой охраной закона. Нельзя его трогать до поры, пока он не преступит границы уложения о наказаниях... Но и тогда не вы, а мы, судьи, будем ему воздавать... Вы же — уж, пожалуйста, потерпите...
— А скоро он вам попадется в руки-то? — наивно спросил Фома.
— Н-неизвестно... Так как он малый неглупый, то, вероятно, никогда не попадется... И будет по вся дни живота его сосуществовать со мною и вами на одной и той же ступени равенства пред законом... О боже, что я говорю! комически вздохнул Ухтищев.
— Секреты выдаешь? — усмехнулся Фома.
— Не то, чтобы секреты, а... не надлежит мне быть легкомысленным... Ч-чёрт! А ведь... меня эта история оживила... Право же, Немезида даже и тогда верна себе, когда она просто лягается, как лошадь...
Фома вдруг остановился, точно встретил какое-то препятствие на пути своем.
— А началось это ведь с того, — медленно и глухо договорил Фома, — что вы сказали — уезжает Софья Павловна...
— Да, уезжает... Ну-с!
Он стоял против Фомы и с улыбкой в глазах смотрел на него. Гордеев молчал, опустив голову и тыкая палкой в камень тротуара.
— Идемте?
Фома пошел, равнодушно говоря:
— Ну и пусть уезжает...
Ухтищев, помахивая тросточкой, стал насвистывать, поглядывая на своего спутника.
— Не проживу я без нее? — спросил Фома, глядя куда-то пред собой, и, помолчав, ответил тихо и неуверенно: — Еще как...
— Слушайте! — воскликнул Ухтищев, — я дам вам хороший совет... человек должен быть самим собой... Вы человек эпический, так сказать, и лирика к вам не идет. Это не ваш жанр...
— Ты, барин, говори со мной попроще как-нибудь, — сказал Фома, внимательно прослушав его речь.
— Попроще? Я хочу сказать — бросьте вы думать об этой даме... Она для вас — пища ядовитая...
— Вот и она говорила то же, — угрюмо вставил Фома.
— Говорила?.. — переспросил Ухтищев. — Гм... Вот что... А не пойти ли нам поужинать?
— Пойдем,— согласился Фома и вдруг ожесточенно зарычал, сжав кулаки и взмахивая ими. — Пойдем, так пойдем! И так я завинчу... так я, после всего этого, раскачаюсь — держись!
— Ну, зачем же? Мы — скромненько...
— Нет, погоди! — тоскливо сказал Фома, взяв его за плечо. — Что такое? Хуже я людей? Все живут себе... вертятся, суетятся, имеют каждый свой пункт... А мне — скучно... Все довольны собой, а что они жалуются — врут, сволочи! Это так они, — притворяются для красы... Мне притворяться нечего — я дурак... Я, брат, ничего не понимаю... Я думать не умею... мне тошно... один говорит то, другой — другое... А она... эх! Знал бы ты... я ведь на нее надеялся... я от нее ждал... чего я ждал? Не знаю!.. Но она — самая лучшая... И я так верил — скажет она мне однажды такие слова... особенные... Глаза, брат, у нее больно хороши! Господи!.. Смотреть в них стыдно... Ведь я не то что с любовью к ней, — я к ней со всей душой... Я думал, что, коли она такая красавица, значит, около нее я и стану человеком!
Ухтищев смотрел, как рвется из уст его спутника бессвязная речь, видел, как подергиваются мускулы его лица от усилия выразить мысли, и чувствовал за этой сумятицей слов большое, серьезное горе. Было что-то глубоко трогательное в бессилии здорового и дикого парня, который вдруг начал шагать по тротуару широкими, но неровными шагами. Подпрыгивая за ним на коротеньких ножках, Ухтищев чувствовал себя обязанным чем-нибудь успокоить Фому. Всё, что Фома сказал и сделал в этот вечер, возбудило у веселого секретаря большое любопытство к Фоме, а потом он чувствовал себя польщенным откровенностью молодого богача. Откровенность эта смяла его своей темной силой, он растерялся под ее напором, и хотя у него, несмотря на молодость, уже были готовые слова на все случаи жизни, — он не скоро нашел их.
— Э, батенька! — заговорил он, ласково взяв Фому под руку. — Так нельзя! Только что вступили вы в жизнь и — уж философствуете! Нет, так нельзя! Жизнь — для жизни нам дана! Значит — живи и жить давай другим... Вот философия! А женщина эта — ба! Да разве в ней весь свет уж так и сошелся клином?
Я вас, если хотите, познакомлю с такой ядовитой штукой, что сразу от вашей философии не останется в душе у вас ни пылинки! О, за-амечательный бабец! И как она умеет пользоваться жизнью! Тоже, знаете, нечто эпическое. И красива, Фрина, могу сказать! И как она будет вам под пару! Ах, чёрт! Право же, это блестящая идея, — я вас познакомлю! Надо клин клином вышибать...
— Мне совестно...— угрюмо и тоскливо сказал Фома. — Пока она жива — я на баб смотреть не могу даже...
— Такой здоровый, свежий человек — хо-хо! — воскликнул Ухтищев и тоном учителя начал убеждать Фому в необходимости для него дать исход чувству в хорошем кутеже.
— Это будет великолепно, и это необходимо вам — поверьте! А совесть, — вы меня извините! Вы несколько неверно определяете, это не совесть мешает вам, а — робость! Вы живете вне общества, застенчивы и неловки. Вы смутно чувствуете всё это... и вот это чувствование принимаете за совесть. О ней же в данном случае не может быть и речи, — при чем тут совесть, когда веселиться для человека естественно, когда это его потребность и право?
Фома шел, соразмеряя шаги свои с шагами спутника, и смотрел вдоль дороги. Она тянулась между двух рядов зданий, походила на огромную канаву и была полна тьмы. Казалось — ей конца нет, и по ней медленно течет вдаль что-то темное, неиссякаемое, мешающее дышать. Убедительно-ласковый голос Ухтищева однотонно звучал в ушах Фомы, и хотя он не вслушивался в слова речи, но чувствовал, что они какие-то клейкие, пристают к нему и он невольно запоминает их. Несмотря на то, что рядом с ним шел человек, он чувствовал себя одиноким, потерявшимся во тьме. Она обнимала его и медленно влекла за собою, а он ощущал, как его тянет куда-то, и не имел желания остановить себя. Какая-то усталость мешала ему думать, в нем не было желания сопротивляться увещаниям спутника — и чего ради сопротивлялся бы он?..
— Живут однажды, — говорил Ухтищев, упиваясь своей мудростью, — и не мешает поэтому торопиться жить... Ей-богу, так! Да что тут говорить — вы разрешите мне встряхнуть вас? Поедемте сейчас в один дом... живут там две сестрицы... ах, как они живут! Решайте!
— Что ж? Я поеду...— сказал Фома спокойно и зевнул. — Не поздно ли? — спросил он, взглянув на небо, покрытое тучами.
— К ним никогда не поздно! — весело воскликнул Ухтищев.
На третий день после сцены в клубе Фома очутился в семи верстах от города, на лесной пристани купца Званцева, в компании сына этого купца, Ухтищева, какого-то солидного барина в бакенбардах, с лысой головой и красным носом, и четырех дам... Молодой Званцев носил пенсне, был худ, бледен, и когда он стоял, то икры ног его вздрагивали, точно им противно было поддерживать хилое тело, одетое в длинное клетчатое пальто с капюшоном, и смешную маленькую головку в жокейском картузе. Господин с бакенбардами называл его Жаном и произносил это имя так, точно страдал застарелым насморком. Дамой Жана была высокая женщина с пышной грудью. Голова ее была сжата с боков, низкий лоб опрокинулся назад, длинный нос придавал ее лицу что-то птичье. Это некрасивое лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на нет — маленькие, круглые, холодные — постоянно улыбались проницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Верой, это была высокая женщина, бледная, с рыжими волосами. Их было так много, что, казалось, женщина надела на голову себе огромную шапку и она съезжает ей на уши, щеки и высокий лоб; из-под него спокойно и лениво смотрели большие голубые глаза.
Господин с бакенбардами сидел рядом с молоденькой девушкой, полной, свежей и, не умолкая, звонко хохотавшей над тем, что он, склонясь к плечу ее, шептал ей в ухо.
А дама Фомы была стройная брюнетка, одетая во всё черное. Смуглолицая, с волнистыми волосами, она держала голову так прямо и высоко и так снисходительно смотрела на всё вокруг нее, что было сразу видно, — она себя считала первой здесь.
Компания расположилась на крайнем звене плота, выдвинутого далеко в пустынную гладь реки. На плоту были настланы доски, посреди их стоял грубо сколоченный стол, и всюду были разбросаны пустые бутылки, корзины с провизией, бумажки конфект, корки апельсин... В углу плота насыпана груда земли, на ней горел костер, и какой-то мужик в полушубке, сидя на корточках, грел руки над огнем и искоса поглядывал в сторону господ. Господа только что съели стерляжью уху, теперь на столе пред ними стояли вина и фрукты.