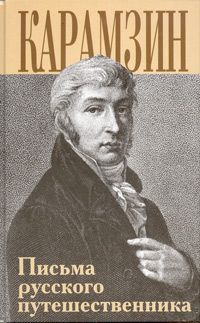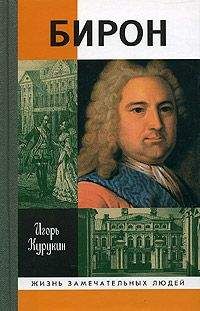Базель, августа 9
Молодая дама из Ивердона ныне поутру уехала, и датчанин Б* исцелился от любовной своей болезни. Вместе с ним наняли мы здесь извозчика, или так называемого кучера (Kutscher), который за два луидора с талером повезет нас в Цирих на паре жирных лошадей, в двуместной старомодной карете; и таким образом за 60 верст платим мы 17 руб. В Швейцарии нет почты. – «Ступайте, господа! – кричит нам почтенный извозчик швейцарский в плисовом фраке. – Ступайте! Чемоданы ваши привязаны». Итак, простите!
В карете, дорогою
Уже я наслаждаюсь Швейцариею, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проницает, кажется, в сердце мое и развевает в нем чувство радости. Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастие, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу (Читатель, может быть, вспомнит о стрелах Аполлоновых, которые кротко умерщвляли смертных. Греки в мифах своих предали нам памятники нежного своего чувства. Что может быть, в самом деле, нежнее сего вымысла, приписывающего разрушение наше действию вечно юного Аполлона, в котором древние воображали себе совершенство красоты и стройности?), не возмущаемую свирепыми страстями! – Так, друзья мои! Я думаю, что ужас смерти бывает следствием нашего уклонения от путей природы. Думаю, и на сей раз уверен, что он не есть врожденное чувство нашего сердца. Ах! Если бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому счастию, что изменение существа моего есть возвышение красоты, перемена изящного на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духом своим возвращаюсь в первоначальную простоту натуры человеческой – когда сердце мое отверзается впечатлениям красот природы – чувствую я то же и не нахожу в смерти ничего страшного. Высочайшая благость не была бы высочайшею благостию, если бы она с которой-нибудь стороны не усладила для нас всех необходимостей – и с сей-то услажденной стороны должны мы прикасаться к ним устами нашими! – Прости мне, мудрое провидение, если я когда-нибудь, как буйный младенец, проливая слезы досады, роптал на жребий человека! Теперь, погружаясь в чувство твоей благости, лобызаю невидимую руку твою, меня ведущую!-
Мы едем подле Рейна, с ужасным шумом и волнением стремящегося между тихих лугов и садов виноградных. Тут мальчики и маленькие девочки играют, рвут цветы и бросают ими друг в друга; там покойный селянин, насвистывая веселую песню, поправляет в саду своем сошки, увитые гибким виноградным стеблем, – смотрит на проезжих и ласковым мановением желает им доброго дня. – Высокие горы у нас перед глазами; но Альпы скрываются еще в лазури отдаления. Юра изгибает за нами хребет свой, отбрасывающий синюю тень на долины… Нет, я не могу писать; красоты, меня окружающие, отвлекают глаза мои от бумаги.
Реинфельден, австрийский городок
Итак, я теперь во владении нашего союзника! – Кучер наш кормит своих лошадей хлебом, а я сижу в трактире под окном и смотрю на Рейн, которого пена чуть до меня не долетает.
Брук
Мы обедали в маленькой швейцарской деревеньке, куда в одно время с нами приехала француженка в печальном платье, с девятилетним сыном и с белкою. Печальное платье, бледное лицо и томность в глазах делали ее привлекательною для меня, а еще более для моего мягкосердечного Б*. «Я надеюсь, сударыня, что вы позволите нам вместе с вами обедать», – сказал он ей с таким видом и таким голосом, который для датчанина был очень нежен. «Если это не будет вам противно»,- отвечала француженка с приятным движением головы. «Господин трактирщик! – закричал мой Б* повелительным голосом. – Вы, конечно, не заставите нас жаловаться на худой обед?» – «Увидите», – отвечал швейцар с некоторою досадою, поправив на голове своей шапку. – «Швейцары – добрые люди, – сказала француженка с улыбкою, сев за накрытый стол, – только немного грубоваты». Поставили кушанье. Б* резал, раздавал и всячески старался услуживать даме и сыну ее. Он не мог утерпеть, чтобы не спросить у нее, по ком носит она траур. «По брате, – отвечала француженка со вздохом.- Он писал ко мне из Т* о своей болезни; я поехала к нему с маленьким своим Пьером и – нашла его лежащего во гробе». Тут обтерла она слезу, которая выкатилась из правого глаза ее, как сказал бы Йорик. – «А в каких летах был ваш братец?» – спросил Б* и заставил меня от досады повернуться на стуле. – «Старее меня пятью годами», – отвечала она и обтерла другую слезу, блиставшую на нижней реснице левого глаза ее. «Господин Б*!- сказал я. – Вы оскорбляете чувствительность госпожи NN горестными воспоминаниями». – «Я этого не думал, – отвечал он, покрасневши, – право, не думал. Простите меня, сударыня!» – «Рана в сердце моем так еще свежа, – сказала она,- что кровь не переставала из нее литься». – Маленький Пьер бросил ложку, посмотрел на мать, встал, подбежал к ней, начал целовать ее руку и между поцелуями взглядывал на нее так умильно и говорил ей так нежно: «Маменька, не плачьте! Не плачьте, любезная маменька!» – что я пошел в карман за белым платком, а Б* в восторге вскочил со стула, схватил руку ее, которою обнимала она сына своего, и прижал ее к своим губам. В самую сию секунду вошел трактирщик. «Ба! что это? – сказал он грубым голосом. – Я думал, что вы обедаете». Никто не отвечал ему. Госпожа NN высвободила свою руку (на которой осталось розовое пятно) и томным взором наказала чувствительного Б* за нескромный жар его. «Вели подать нам кофе»,- сказал я трактирщику; но он стоял как вкопанный, выпучив глаза на француженку, которой бледные щеки, от внутреннего ее движения, покрылись алым румянцем. Между тем она указала маленькому Пьеру место его. Б* сел на свое, и мы принялись за десерт. Госпожа NN успокоилась и рассказала нам, что она возвращается теперь к своему мужу, который родом швейцар, но по торговым делам жил долгое время во Франции и, будучи в Т*, влюбился в нее, сыскал её любовь, женился на ней и переехал жить в К*, «Он очень счастлив, сударыня, – сказал я, – имея такую супругу; но он, конечно, достоин своего счастия, потому что вы нашли его достойным любви вашей».- Тут кучер объявил нам, что лошади впряжены. Надобно было расплатиться с трактирщиком и проститься с нежною француженкою. Она позволила нам расцеловать своего Пьера, из чего вышла опять чувствительная сцена, и вот каким образом. В самую ту минуту, как Б* обнимал маленького Пьера, резвая белка, прыгавшая по столу, вскочила ему на голову и передними своими лапками так ласково ухватила его за нос, что он закричал. Госпожа NN ахнула, а трактирщик, стоявший у дверей, захохотал во все горло. Белку стащили с головы моего приятеля, и маленький Пьер, вертя ее за хвост, кричал: «Ах, белка! Злая белка! На что ты схватила за нос господина Б*?» Учтивый приятель мой уверял госпожу NN, что ему не приключилось в самом деле никакого вреда, кроме испуга. «Ах, государь мой! – сказала она. – Я вижу кровь, я вижу кровь!» – я белым своим платком обтерла две красные капли на его переносице. «Ах, сударыня! – отвечал Б*, будучи тронут до глубины сердца. – Как мне благодарить вас за вашу попечительность! Воспоминание о ней будет для меня всегда приятнейшим воспоминанием; и самой вашей белки я никогда не забуду». Госпожа NN подарила ему трубочку английского пластыря, желая, чтобы целительная сила его загладила преступление ее зверька. Тут мы снова простились, получив от нее адрес ее и записав ей наши имена. Маленький Пьер проводил нас до кареты. Милая француженка смотрела из окна, когда мы садились. «Простите, сударыня, простите!» – кричал ей Б*. – «Простите!» – отвечала она. – «Простите!» – кричал маленький Пьер, кивая головою. – Мы поехали и долго еще говорили о любезной госпоже NN, которая в воображении моего Б* затемнила образ молодой госпожи из Ивердона. -
Проезжая через одну деревню, увидели мы великое стечение народа, велели кучеру остановиться, вышли из кареты и втерлись в толпу. Тут вязали одного молодого человека, который со слезами просил, чтобы его освободили. «Что такое он сделал?»- спросили мы. – «Он украл, украл два талера в лавке, – отвечали нам вдруг человека четыре, – у нас никогда не бывало воровства; это бродяга, пришедший из Германии; его надобно наказать». – «Однако ж он плачет, – сказал я, – добродушные швейцары! Пустите его!» – «Нет, его надобно наказать, чтобы он перестал красть», – отвечали мне.- «По крайней мере, добродушные швейцары, накажите его так, как отцы наказывают детей своих за их проступки», – сказал я и пошел к своей карете. – Может быть, ни в какой земле, друзья мои, не бывает так мало преступлений, как в Швейцарии, а особливо воровства, которое считается здесь за великое злодеяние. О разбоях и убийствах совсем не слышно; мир и тишина царствуют в счастливой Гельвеции. -