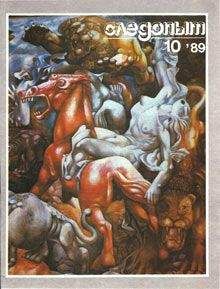одыбаться надо доче, одыбаться.
– Ничего, доча, ничего, твой козёл перебьется без жены. А ты отдохнёшь в родном дому.
Но в «родном дому» ждало неожиданное – Фёдор Иванович сидел на стуле с вытянутыми, короткими руками. Практически висел. Даже не принял из рук жены и дочери привезённые продукты.
– Нати вам из-под кровати! – воскликнула Анна Ивановна. – Полюбуйтесь на него! Руки прижал. Космонавт висит. Космонавт с похмелья. Оставила одного только на сутки.
Обе смотрели. Не поддавался старый дурак в Колпино дрессировке. Так же, как и молодой в Питере. Как ни старайся, ни учи их, ни направляй.
– Ты где деньги взял? – уже наседала Анна Ивановна. – Опять у Колупаевых занял? Так я зенки-то Глашке повыцарапаю. Так и передай ей. И тебе, и тебе, старому дураку! – мазнула виноватого по макушке.
Фёдор Иванович терпел. Висел, не шевелился. Всё так же с куцыми руками на туловище. Беззащитный, покорный.
Дочь пожалела отца, втихаря сунула двухсотку. На пиво. Космонавт тут же из кухни исчез. Жена сделала вид, что ничего не заметила. Выкладывала продукты.
Обедали. Потом женщины пили чай, а мужчина, совсем осмелев, глотал пиво. Бутылочное.
– Курей кормил? – спросила жена.
– Кормил, – ответил муж и отсосал из бутылки.
– Индюшек, индюшат?
– Угу, – отклячил губу муж на манер фаготиста.
– А борова? А Гришку?.. Забыл! Точно забыл!
Муж побледнел. Сунул бутылку в карман и побежал во двор.
При приближении хозяина к деревянному хлевушку Гришка начал внутри бить чечётку. Копытцами. Хозяин бегал возле хлевушка, готовил бурду. И Гришка каждый раз колотил. Сопровождал его как бы барабаном.
Припал наконец к корыту.
Хозяин смотрел. Закипала слеза. Жгуче чувствовал родство. Тоже, бедный, как с похмелья. Эх, все мы гришки. Слёзы жгли. Всё мы, можно сказать, братья.
– Ну, чего стал. На вот, брось ему очистки.
Фёдор Иванович брал из чашки картофельные очистки и бросал:
– Ешь, Гришанька, ешь.
– Э-э, – смотрела на мужа жена. – Ноздри даже вывернуло пятаком. Как у Гришки твоего. У кореша.
Гришка молотил, но не забывал вскидывать пятак и хрюкать хозяину. В поддержку.
– Ешь, Гришанька, ешь, – всё давился пьяной слезой Фёдор Иванович. Вдруг рухнул на колени. Обнял животное: – Все мы братья, Гришанька, все. Никому мы не нужны. Ы-ых!
Анна Ивановна уже звала:
– Доча, сюда! Совсем сбрендил отец. С Гришкой обнимается!
Прибежала дочь. Вдвоём подняли Фёдора Ивановича с колен, повели.
– Вот, пожалуйста! – говорила Анна Ивановна мотающейся голове. – Как говорится, с утра выпил – весь день свободный. Вот, пожалуйста! Полюбуйтесь.
Дочь жалела отца: зря ты, мама. Редко это у него. Правда ведь, папа?
– Ыы-ххх!..
…Яшумов набрал номер жены. Сегодня первый день её отпуска. Но ещё утром за завтраком дочь и мать вели себя странно. Обе надулись и не смотрели на него. Любимого мужа и не менее любимого зятя. Явно чего-то ждали. Только чего? Крепкого удара по столу кулаком или, на худой конец, сальто-мортале назад. Вместе со стулом.
Набрал ещё раз. Всё так же – «абонент временно недоступен». Странно.
И так было полдня. Жена не отвечала. Что-то случилось. Не понимал Плоткина да и Лиду Зиновьеву с рукописями. В обед повезло – Акимов отправился на поклон к Яровому. Сразу и сам стал собираться. Дал указания редакторам («Ну, вы тут. Сами понимаете».) и помчался домой. И в метро, и на улице ещё набирал номер жены. Как отрезало!
Дома встретила тишина. В гостиной дымился столб солнца. На кровати в спальне была разбросана одежда. Один чемодан был раскрыт, второй – исчез. Да что же это такое! Где-то был записан телефон родителей Жанны. Нашёл листок с затёршейся абракадаброй. Набрал: «Анна Ивановна? Здравствуйте!» – «Вы ошиблись номером». И опять гудки.
Через полчаса был на Московском вокзале. Почти сразу поехал в Колпино.
Когда шёл к дому на Ижорской улице, зазудело в нагрудном кармане. «Да», ответил.
– Ты уже дома? А я в Колпино. У мамы с папой…
От возмущения не находил слов. Сбросил звонок! Опять зазудело: «Что у тебя с телефоном? Ты сам в порядке?»
Хотелось сказать бездушной недалёкой крестьянке, что так порядочные женщины не поступают. Не говоря уже о жёнах. Вместо этого сказал:
– Да, я в полном порядке.
Сказал, как обманутый, всё разом потерявший, уже безразличный ко всему американский герой в конце фильма. И отключил телефон. Пошёл назад на станцию.
Сидел в вокзальчике, ждал обратную электричку. Рядом с мальцом лет пяти и его матерью. В телевизоре под потолком показывали какой-то военный парад. То ли в Индии, то ли в Пакистане. Военные в чалмах, с маршальскими погонами (по меньшей мере!) проходили маршем, размахивая прямыми руками вперёд, как вёслами. Малыш в бейсболке слизывал мороженое, смотрел. Дал своё заключение: «Оборотни в погонах». И добавил: «Идут». Все рядом начали смеяться. Мать задёргала мальчишку: «Кто тебя научил? Кто?»
Да никто, подумал Яшумов и погладил малыша. Из телесериалов запомнил маленький в бейсболке. Дитя своего времени. Как говорится, с младых ногтей. С молоком матери.
Малыш чем-то походил на Ярика Лиды Зиновьевой. А вот чем? Глаза, глаза такие же. Две чёрные большие черешни в белых блюдцах!
Наклонился:
– Как тебя зовут, маленький?
– Юра, – смело представился малый. И слизнул с мороженого.
Смотрите-ка, Юра! – радовался, делился со всеми своим открытием Яшумов.
4
Жанна вернулась из Колпина неузнаваемой. Томной и какой-то загадочной. Как Шахерезада. Но русская, крупная. Шахерезада Степановна.
Сразу села ему на колени и обняла за шею. «Что такое!» – запрокинулся муж, не видя белого света. Но ночью – работал. На полную.
Медовый месяц начался. Второй. Правда, длился недолго. Всего лишь неделю. Жена словно что-то срочно навёрстывала, открыв в себе женское.
Потом всё резко изменилось – его стали отталкивать. И по ночам, и днём.
В первый раз она побледнела и побежала в туалет прямо из-за стола. Яшумов, слушая утробную рвоту, начал понимать. Неужели? Не верилось. И радовался, и холодел, пугался. Как же так случилось? В таком возрасте.
Она сказала ему. Да, беременна. Сказала отвернувшись, зло. Точно готова была его убить. Изничтожить. И радость его как-то смазалась. Тревога только осталась, озабоченность.
Её стало тошнить постоянно. И, казалось, не от какой-то там еды, а от него, Яшумова. Стоило ему спросить: «Ну как ты? Не скучала?». Она тут же срывалась, бежала в туалет и падала там к унитазу.
«Ты не спишь, милая?» – спрашивал он ночью в спальне и клал руку ей на плечо. Или на грудь. Просто так. Но она сразу садилась на край кровати. Словно узнать: спит она или нет? И опять бежала. К своему унитазу. Как к врачу, по меньшей мере, как к санитару.
Удивляло это. Ведь не бледная немочь какая-нибудь, а крепкая женщина (крепкая баба! в конце концов), которой бы только рожать и рожать. Правда, возраст её. «Может быть, тебе валерьяны попить? Успокоиться?» – робко спрашивал он. «Ы-ааа!» – был ответ из туалета.
Приезжали, выходили из закулисья тёща и тесть. Фёдор Иванович зятя